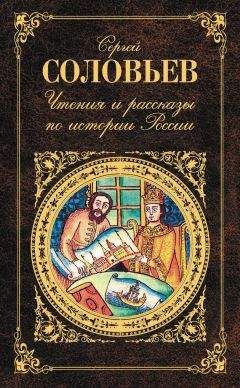Поль де Ман - Аллегории чтения. Фигуральный язык Руссо, Ницше, Рильке и Пруста
Это бесконечное рассуждение — само по себе риторический модус, поскольку оно не способно когда-либо избавиться от риторического обмана, который оно опровергает. Определение этого модуса — за пределами наших сегодняшних интересов, хотя кое-что подсказывает нам только что процитированное описание незавидного положения художника из эссе «Об истине и лжи», а кое-что — общая тональность и структура текста. В первую очередь, это описание вовсе не трагично: страдание, о котором идет речь в этом абзаце, равно как и предшествовавшее ему счастье, невозможно воспринять серьезно, поскольку оба они столь явно оказываются результатом глупости. Та же самая глупость распространяется и на текст, поскольку художник—автор текста столь же подвержен ее воздействию, как и описанный им художник — герой текста. Мудрость текста саморазрушительна (искусство — истина, но истина убивает себя), но это саморазрушение все время замещается сериями последовательных риторических обращений, которые, благодаря бесконечному повторению одной и той же фигуры, удерживаются в неопределенности между истиной и смертью этой истины. Угроза немедленного разрушения, становясь фигурой речи, таким образом, становится постоянным возвращением этой угрозы. Поскольку это возвращение — временное событие, о нем можно рассказывать последовательно, но то, о чем оно повествует, предмет его рассказа как таковой,— просто фигура. Нереференциальный повторяющийся текст повествует историю о литературно разрушительном, но не-трагическом лингвистическом событии. Мы могли бы назвать этот риторический модус, модус «conte philosophique» «Об истине и лжи» и, расширительно, всего философского дискурса, иронической аллегорией — но только если мы понимаем «иронию» в духе Фридриха Шлегеля, а не Томаса Манна. Место, где мы должны вскрыть нечто подобное,— творчество самого Ницше, а не работы его предположительных продолжателей.
Это заключение о фундаментально иронической и аллегорической природе дискурса Ницше воздействует на последовавшие и предшествовавшие «Philosophenbuch» произведения, равно как и на отношение двух сфер его творчества, которые, как обнаруживается, были отделены друг от друга по более или менее произвольным причинам. Здесь невозможно показать, хотя бы в виде наброска, как будет протекать ироническое чтение таких аллегорических текстов, как «За- ратустра» или «Генеалогия морали», или аллегорическое чтение иронических афоризмов из «Веселой науки» или «Воли к власти». Может быть, более продуктивно было бы в заключение рассмотреть, каким образом соответствует этому образцу такой ранний текст, как «Рождение трагедии». Ибо в переносе того, что Ницше назвал «старой ошибкой обоснования», с высказывания на историю текста вполне очевиден один из самых устойчивых способов появления иллюзорного преодоления риторической слепоты. Вспомнив об амбивалентности позднего Ницше по отношению к истине, можно противопоставить эту его воинственность относительной наивности ранних работ. Некоторые тексты, начиная, скажем, с эссе «Об истине и лжи», могут рассматриваться как эпистемологически деструктивные, но представляя их частью движения, происходящего за пределами предположительной мистификации ранних работ, «историю» творчества Ницше в целом можно по-прежнему считать повествовательным переходом от ложного к истинному, от слепоты к прозрению. Однако нерешенным остается вопрос об образце этого повествования: что это — «история», открывающая телеологическое значение, или «аллегория», повторяющая возможную путаницу фигурального и референциального высказывания. Какова структура творчества Ницше, что оно — процесс, движение «становления» (а ссылка позднего Ницше на «невинность становления» хорошо известна) или повторение? Почти навязчивое возвращение самого Ницше, да и его толкователей, к загадкам раннего «Рождения трагедии» делает вполне явной важность этого вопроса.
Кажется, что уж в «Рождении трагедии» с его очевидным пафосом и преувеличениями неразумно искать иронию. Трудно не посчитать эту книгу доводом в пользу непосредственного присутствия воли, в пользу превосходства подлинно трагического искусства над ироническим. Но если бы так оно и было, следовало бы признать наличие подлинного развития, даже обращения в мысли Ницше, произошедшего сразу же вслед за написанием «Рождения трагедии». Обращение могли вызвать размышления о риторике на страницах «Philosophenbuch» и в заметках к курсу 1873 года, и восстание против Вагнера и Шопенгауэра в «Unzeitgemasse Betrachtungen» стало бы его проявлением. Структура произведения была бы тогда совсем другой, вообще непохожей на ту, что была описана и использована в эссе «Об истине и лжи».
Риторически осведомленное прочтение «Рождения трагедии» показывает, что авторитетность всех утверждений, которые как будто бы высказаны на его страницах, можно поколебать посредством произведенных самим текстом высказываний. А если к тому же принять во внимание заметки, написанные для «Рождения трагедии», но не включенные в опубликованный текст, скрыто присутствующая в окончательном варианте ироничность станет вполне явной. Более того, предстоящая публикация в новом критическом издании произведений Ницше ранее не известных подготовительных материалов к «Рождению трагедии» показывает, что исключение этих заметок продиктовано предположениями, еще серьезнее подрывающими систему эпистемологического авторитета. В этих фрагментах нам сообщается, что переоценка Диониса как первичного источника истины — тактическая необходимость, а не субстанциальное утверждение. Слушатели Ницше должны высказываться, используя дионисическую терминологию, потому что они, в отличие от греков, не способны понимать аполлонический язык фигуры и видимости. В псевдоисторическом рассуждении, напоминающем Гельдерлиновы рассмотрения диалектического отношения между миром эллинов и западным миром, Ницше пишет: «Эпическая басня древних представляла дионисическое в образах. Нам кажется, что именно дионисическое представляет (символизирует) образ. В древности дионисическое объяснялось образом... Им был ясен мир представления; нам понятен как раз дионисический мир»[120]. Отсюда следует, что всю систему оценки, примененную в «Рождении трагедии», можно при желании обратить. Дионисический словарь использован только для того, чтобы мистифицированная публика смогла понять деконструирующий его аполлонический модус. Этот обмен свойствами, включающий категории истины и видимости, лишает авторитета оба полюса. Структурирующая повествование бинарная полярность оказывается той же самой фигурой, с которой мы встречались во всех предыдущих примерах, той же самой «переменой имен», которая упоминается в «Об истине и лжи». Если мы прочитаем Ницше, обращая внимание на его риторику и используя его собственную теорию риторики, мы обнаружим, что общая структура его произведений напоминает бесконечно повторяющееся действие художника, который «не умеет учиться у опыта и всегда попадает в ту же яму, в которую уже попадал раньше». Кажется, труднее всего согласиться с тем, что эта аллегория заблуждений есть не что иное, как сама модель философской строгости.
Риторика убеждения (Ницше)
Вопрос об отношении философского и литературного дискурса увязан в творчестве Ницше с критикой главных понятий, лежащих в основании западной метафизики: понятий единого [hen], благого [agathon] и истинного [aletheia][121]. Тон и аргументы, ассоциируемые обычно с критической философией, вовсе не похожи на тон и аргументы этой критики. Она часто прибегает к услугам таких безапелляционных и демагогических ценностных противопоставлений, как слабость и сила, болезнь и здоровье, стадо и «немногие избранные», а оценка этих терминов столь произвольна, что их трудно принимать всерьез. Но поскольку общепризнано, что немыслимое в «философских» произведениях убеждение при помощи ценностных суждений терпимо (а то и желательно) в так называемых литературных текстах, сама ценность этих ценностей обусловливается возможностью отличить философские тексты от литературных. К тому же это тот самый уровень грубой эмпирии, на котором порой особенно трудно истолковать творчество Ницше: явно литературные тексты содержат высказывания, обычно ассоциируемые с философией, а не с литературой. Деконструируя ценность ценностей, произведения Ницше подымают вечный вопрос об отличии философии от литературы.
Самая фундаментальная из всех «ценностей», принцип непротиворечия, обоснованный принципом тождества, становится целью атаки в посмертно опубликованном фрагменте, восходящем к осени 1887 года:
Мы не можем одно и то же утверждать и отрицать: это субъективный, опытный факт, в нем выражается не «необходимость», но лишь наша неспособность.