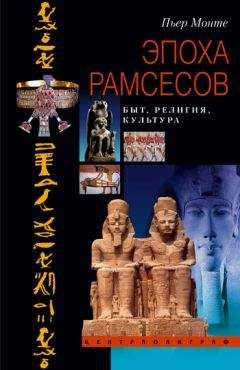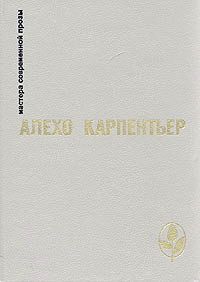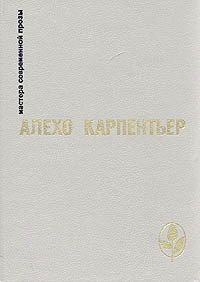Пьер Шоню - Цивилизация Просвещения
Обучение грамоте распространяется лавинообразно в XVIII веке; но ход ему был дан в конце XV — начале XVI века. Реформация могла находить новых приверженцев только при наличии больших групп потенциальных читателей и достаточного количества средств для копирования и распространения написанного. Раскол, произошедший между двумя христианскими конфессиями, в дальнейшем приводит к усилению различий, существовавших изначально, С этой точки зрения протестантская реформа предстает не как причина, а как катализатор неравенства. Обучение грамоте предполагает прежде всего начало языковой унификации, которую оно впоследствии ускоряет. На службе этой унификации, естественно, стоят церковь и государство.
В Италии — тосканский, во Франции — диалекты междуречья Сены и Луары, на востоке — средненемецкий, английский против кельтских языков далекого и отсталого запада — реформы в Уэльсе в XVI веке осуществлялись на валлийском; в Испании, на территории процветающей Кастилии, толедская языковая норма в начале XVI века сменяется бургосско-вальядолидской, но каталонско-валенсийский, потеряв Арагон, продолжает противостояние; португальский отделяется от галисийского и к XVII веку преодолевает искушение уступить свое место кастильскому. В XVIII веке, действуя более тонко, французский в масштабах всей Европы предпринимает на уровне местной и государственной элиты маневр, который приносит ему контроль над 200 тыс. кв. км окситанских диалектов. В Германии эта операция достигает наибольшего успеха около 1770 года, затем следует глубокий спад под натиском upper middle class[39], в России — пятнадцать лет спустя, как раз в тот момент, когда Ривароль провозглашает французский язык всеобщим. Для успеха не хватило государства.
Лингвистическая география в XVIII веке сохраняется в качестве географии культурной. Леруа Ладюри наблюдал ее рождение в XVI веке. Начиная с XVI века появляется два Юга, противопоставленных друг другу: один — преждевременно ставший двуязычным, охваченный Реформацией, подписывающий документы у нотариусов, и другой — дальний, недоступный для французского. На другом конце своего географического ареала французский благодаря королевскому двору с XVI по XVIII век добрался до центра Брюсселя и, через города и местную элиту, привлек двойственную Валлонию, перекресток романских и нижненемецких влияний, в лагерь франкофонов. Вернемся на юг и позаимствуем у Леруа Ладюри замечательный образ: течение французского языка к югу вдоль русла Роны, стекающей с гор Центрального массива, становится «движением пионеров освоения культурной целины», «оно контрастирует с соседними областями тени… со всеми регионами, которые еще долго будут отсталыми: в 1750 году, согласно статистике подписей, как и в 1680–1686 годах, согласно картам Маджоло, культурная деградация постепенно усиливается, если последовательно двигаться с нижней Роны к верхней Гаронне».
Вот «основанное на статистике подписей сравнение Востока и Запада (Монпелье — Нарбонн); в Монпелье… около 1575 года… среди ремесленников было только 25 % неграмотных против 33 % в Нарбонне. Кроме того, в Монпелье образованное большинство ремесленников было куда более просвещенным: в этом городе большинство грамотных ремесленников умели полностью писать свое имя; в Нарбонне в те же годы половина представителей этой же группы населения ограничивалась инициалами… В Монпелье французский стал разговорным языком уже с 1490 года. В Нарбонне — позже». Эти диспропорции обладают важным свойством: они сохраняются и усиливаются. «Век спустя, в 1686–1690 годах, карты Маджоло по-прежнему демонстрируют плавный спуск, ведущий из Тара (где 30–39 % жителей способны написать свое имя) в Эро (20–29 %), потом в Од (10–19 %) и, наконец, на Верхнюю Гаронну (менее 9 %)».
Поскольку все остается как было, около 1680-х годов во Франции, везде понемногу, открывается второй фронт: ликвидация безграмотности, обучение французскому языку (5—10 %), великий труд начала XVI века. И наконец, в 1680–1700 годах, — по всей Европе (исключая Польшу и Россию). Обучение городской элиты и сельской аристократии грамоте повсюду, на 3/4 европейской территории, предполагает фактическое двуязычие. Для более узкого круга элиты это двуязычие с учетом латыни в действительности оказывается трехъязычием. Например, в Тулузе — окситанский, французский, латынь. В Польше и Венгрии, далеко на востоке, происходит возвращение к фактическому двуязычию: латынь там еще в XVIII веке сохраняет функцию культурного языка-посредника, в других странах уже утраченную.
Протестантская Европа имеет давнее и значительное преимущество. Возьмем Англию и Шотландию, где оно проявляется на всех уровнях. Лоуренс Стоун выделяет пять ступеней. Уровень 1 — умение разбирать буквы. Именно этот уровень и отражают наши церковно-приходские книги. Он не дает возможности дальнейшего самостоятельного обучения. Уровень 2, плохо поддающийся определению, — это уровень подлинных изменений, овладение практическим чтением, письмом и счетом. Именно этот уровень характеризует большинство приходских школ шотландской пресвитерианской церкви, это и уровень части английской равнины. Уровень 3 позволяет вести бухгалтерию. Уровень 4 — или, точнее, разновидность уровня 3 применительно к другой социальной группе — включает освоение классической культуры. И 5 — это университетский уровень (собственно университеты и Inns of Court[40]). Мы можем с уверенностью измерить лишь уровень 1, но между ним и остальными ступенями имеется корреляция. В XVII веке в Англии происходит настоящая культурная революция. Это доказывается стремительным ростом числа достигших первого уровня. В 1600 году 25 % населения могут читать и подписываться (против 15 % в Шотландии и 16 % во Франции, согласно Уэлмари и Флери). В 1675 году в Англии этот показатель достигает 45 %, во Франции в 1688–1720 годах — 29 %. Шотландия стартует позже, но движется быстрее: с 1680 года она выходит в лидеры. В XVIII веке темпы распространения грамотности в Англии и Франции одинаковы, но это означает лишь, что Англия сохраняет приблизительно двукратный перевес, достигнутый к 1680 году — началу эпохи Просвещения. Кроме того, если учесть, что среди студентов университетов широко представлены все социальные слои, становится очевидно — вспомним об очень высоком проценте yeomen и husbandmen[41], умеющих читать и подписываться, — что преимущество Англии перед континентом на уровнях 3 и 5 — уровнях распространения цивилизации — было гораздо более значительным. Именно в XVII веке Англия набирает козыри для взлета конца XVIII века. В XVII столетии в Англии шло инвестирование мозгов. Не так давно Ф. Крузе хорошо продемонстрировал преимущество Англии на примере экономики. Эта революция сопровождается полной победой английского языка, который бесповоротно оттесняет кельтские диалекты все дальше и дальше на отсталый Запад.
Социологический кальвинизм, по времени совпадающий с ранним распространением обучения чтению, атакует Европу эпохи Просвещения с фланга. Леруа Ладюри дал ему язвительную характеристику: «…формальный отказ от удовольствий, скрытая терпимость к ростовщичеству, говорим аскетизм, подразумеваем капитализм»; однако у него есть по крайней мере одна заслуга — точное совмещение во времени двух революций. Его власть над человеческой массой была долгой: «Житель Севенн 1500 года, кутила и весельчак, до безумия влюбленный в танцы, папист, суевер и колдун, тонет во мраке забвения и в глубинах подсознания. Нарождается новый народ… с очищенной религией, подавленным либидо, буржуазной бережливостью и христианской свободой. Это народ унылый и свободный: он останется таким даже спустя много лет после камизаров… И это приводит на память другую историю, бесконечно более значимую и бесконечно похожую: историю, которая привела от Merrie Old England[42] к Англии пуританской». Пуританская Англия выигрывает второй раунд и индустриальную революцию. Контрреформация, особенно августинианская контрреформация во французском духе, устремляется за ней в погоню чуть позже. Пытаясь сэкономить на национальном языке в роли культурного посредника, она вынуждена, например в Бретани, быть одновременно более амбициозной и более скромной.
На другой стороне победоносного приобщения к культуре посредством книги — огромное множество французских служащих. Пионерская «граница» культурной экспансии в конце XVII века постепенно устремляется на завоевание великого Запада. Вдвое больше людей, но вдесятеро больше читающих, причем читающих больше и лучше. И самое главное, пионерская «граница» около 1680 года приводит к великому умножению возможностей, а значит — стоит ли добавлять? — к усилению диспропорций.
То, что в XVI веке было впервые осуществлено благодаря частной инициативе, что было создано тут и там протестантскими церковными советами, тем самым подготовившими будущий триумф диссентеров, великие государства эпохи Просвещения сделали обязательным. В 1698 году Людовик XIV предписал введение по всей Франции начальных школ; на исполнение потребовалось три четверти века. Там, где существовала мощная читательская элита, атака «границы» была стремительной: взгляните, как с раннего времени вдоль течения Роны среди трудновоспитуемого населения окситанских департаментов выстраиваются подписи обученных грамоте; взгляните на Нормандию, где в 1770–1790 годах умели подписываться 90 % мужчин и 60 % женщин… на земли Ож, на Бессен, на северную оконечности Котантена, где эти цифры и для мужчин и для женщин достигают пика в 90–95 %. Франция, рано начавшая читать, сосредоточивается вокруг Парижа, охватывает Нормандию, движется на восток и спускается по Роне. От читателей XVIII века — всего несколько шагов до индустриальной Франции XIX–XX веков. И примерно в то же время, во второй половине XVIII века, был преодолен предпоследний этап завоевания страны французским языком. Он неотделим от подлинной революции в обучении грамоте, охватившей почти 50 % населения. Как уже отметил Ф. Брюно, это государство и нужды всепроникающей администрации разрушают патуа и диалекты до такой степени, что «незнание французского языка» становится «неудобным и опасным». С момента введения муниципального управления на всей территории государства, о котором было объявлено 25 июня 1787 года, свободное владение французским — сначала для мужчин, значительно позже для женщин — превращается в обязательное требование повседневной жизни.