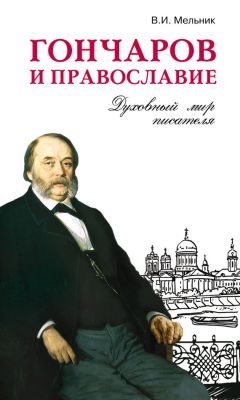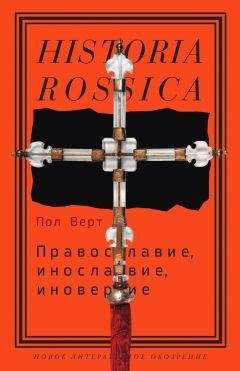Александр Генис - Уроки чтения. Камасутра книжника
Так оно и происходит, ибо чем глубже Пушкин проникает в Азию, тем заметнее в нем оживает культурная память. Он едет на юг, а попадает в прошлое, быстро погружаясь в древность: встреченная калмычка превращается в степную Цирцею. Взяв Гомера в проводники, Пушкин уже не отпускает его, и за обедом: С ним выпили мы в первый раз кахетинского вина из вонючего бурдюка, вспоминая пирования Илиады. На Кавказе Пушкин вспоминает Плиния. Он переправляется через Куру по древнему мосту, памятнику римских походов и опускается на дно истории, описывая Арарат: Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к его вершине.
Отсюда уже начинается этнография. В окружении варваров автор естественным образом становится представителем Запада, цивилизации, истории. Не только русский, но и римлянин, автор изъясняется латынью Горация и сопровождает легионы Паскевича. Война вызывает у него энтузиазм, ибо он в ней ничего не смыслит: “Что такое левый фланг?” – подумал я и поехал далее. Чужой среди своих, Пушкин подчеркивает комизм ситуации, изображая себя на полях рукописи кавказским Дон Кихотом – в бурке, верхом, но в цилиндре. Как Пьер Безухов на Бородинском поле, автор на всё смотрит со стороны и выбирает из окружающего такие детали, чтобы получилась романтическая картина, достойная Сальваторе Розы.
Смешав эпохи и народы, Пушкин добивается нужного ему эффекта: путешествие в Арзрум – маршрут в безвременье. Застыв в неподвижности, выпав из истории, Восток образует живописный контраст Западу, другими словами – Пушкину. Выныривая из архаики, он фиксирует свое возвращение всего лишь одной приметой: русскими журналами. Свидетели быстротечного – европейского – времени, они не только отмечают конец путешествия, но и возвращают автора к его собственной жизни. Завершив экскурсию в варварскую древность, Пушкин снимает тогу и погружается в актуальные дрязги: Первая статья, мне попавшаяся, была разбор одного из моих сочинений. В ней всячески бранили меня и мои стихи.
* * *Когда я впервые посетил четырехэтажный магазин “Барнс и Нобл”, меня поразило не количество книг, а число категорий, на которые их разбили. Меньше всего было собственно литературы. Она занимала короткую стенку и называлась библейски просто: “Literature”. Зато остальные секции охватывали все сферы бытия, и небытия тоже, если учесть жанр загробных посиделок и других спиритических радостей. Одного секса набралось с ползала: эротика восточная, дальневосточная, однополая, кулинарная, для семьи, женщин, наконец, детей.
Увлеченный бескрайней перспективой, я покупал всё – историю трески, соли, отвертки. Книги дублировали мир, вновь обещая его перечислить, как “Календарь Мартьянова”. Меня остановили два, если не считать жены, фактора. Во-первых, от книг в доме просели балки, во-вторых, разросся Интернет. Упраздняя целые профессии, как это случилось с агентами бюро путешествий, он добрался и до компиляторов, которые видели свою роль в том, чтобы собрать факты и раздать их заново. Теперь, однако, вооружившись “Гуглом” и “Википедией”, с этим может справиться каждый. Став самому себе писателем, читатель может обойтись фактами без переплета. Так даже лучше, ибо всякий поиск создает неповторимую конфигурацию знаний и увлекает попутными сведениями.
Не удивительно, что наш “Барнс и Нобл” закрылся. Книг, впрочем, меньше не стало, но теперь я жду от них другого – возгонки информации или ее трансмутации. Я жду, когда нонфикшн поднимется по другому склону горы, чтобы на вершине встретиться со стихами, первыми научившимися отбирать факты и фильтровать базар.
В хороших стихах всегда есть зерно, из которого выросло стихотворение. Иногда поэт на него честно указывает: Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины. Идя по ссылке, мы добираемся до исходного факта. Если он изменил автора, то и читатель не пройдет мимо. Попав в стихи, факт, как удачливый сперматозоид, производит в них бесповоротные перемены. Теперь от него не избавиться. Он делается неизбежным и живет уже не своей, а чужой жизнью: был фактом, стал цитатой.
Собственно, таким должен быть и жанр нонфикшн: поэзия без рифмы (без ритма словесности не бывает вовсе). Различия не столько в методе, сколько в цели. Стихи бывают глубокими, запоминающимися, народными, ловкими, бессмертными, пронзительными, песней. Но, за исключением разве что исторических баллад, они не обязаны быть интересными, а про нонфикшн такого не скажешь. Лишенная готовой формы и законного места, эта литература держится только тем и тогда, когда от нее нельзя оторваться.
В конечном счете и это зависит от автора. Впуская нас в себя, он предлагает истинное вместо придуманного. Ведь самая невымышленная часть нонфикшна – его автор. Поэтому в таком документальном произведении, как “Я помню чудное мгновенье”, центральным фактом является “Я”. С ним не поспоришь, его не сочинишь, это даже не факт, а факсимиле мозговых извилин.
24. 2012
О том, что 2012 год будет последним, я узнал из первых рук. Пока жена благоразумно загорала на пляже, я трясся в джипе по грунтовой дороге, с трудом виляющей по низкорослым джунглям Юкатана. Хотя мы выехали до рассвета, жара уже началась, а до пирамиды было еще восемь часов пути. Когда она наконец появилась, в нее оказалось трудно поверить. Огромная, крутая и узорная, пирамида напоминала мираж и была не от мира сего.
– Теперь, – обрадовал большеголовый, как все майя, гид, – мы можем на нее взобраться.
Проклиная преследующую меня с детства любознательность, я полз по непомерным ступеням.
– Для богов в самый раз, – утешил гид.
Сверху открывался вид на монотонный пейзаж, самой живописной частью которого была пестрая группа калифорнийских “нью-эйджеров”, расположившихся на вершине. Со свойственной безумцам приветливостью, они объяснили, что тринадцатый бактун, который начался 11 августа 3114 года до нашей эры, уже подходит к концу и мир погибнет к следующему Рождеству.
Гид подтвердил расчеты.
– Не впервой, – горько сказал он. – После наводнения люди стали рыбами, после урагана – обезьянами, после пожара – птицами, индюками, а теперь мир уничтожит кровавый дождь.
– В кого же мы превратимся на этот раз?
– Больше не в кого, – развел руками гид и повел обратно, обещая ледяное пиво.
Ввиду перспективы мы приободрились: до Рождества надо еще дожить, а пиво ждало у подножия.
Честно говоря, я не очень верил календарю майя, потому что они и сами им интересовались куда меньше, чем футболом. К тому же мне всегда казалось, что тотальная катастрофа – слишком легкий выход: на миру и смерть красна.
В Америке, однако, далеко не все разделяют мой пессимизм, и тысячи праведников с нетерпением ждут конца света. На Юге, где вера крепче, об этом можно прочесть на бамперах: “В случае второго пришествия этот автомобиль останется без водителя”.
У нас, в Нью-Йорке, такого ждали, когда умер любавичский ребе. Его жизнь слегка задела мою, когда хасиды наняли меня редактировать русский перевод мемуаров Шнеерсона. Из рукописи я узнал, что ребе учился в Ленинградском кораблестроительном, сидел в ГПУ и беседовал с Сартром в Париже. В Бруклине многие считали его мессией и не верили, что он умер навсегда, поэтому Мендель Блезинский не пошел на работу. Вместе с единоверцами он трое суток ждал у могилы, надеясь, что ребе вернется. Когда этого не произошло и Мендель все-таки пришел на службу, коллеги сделали вид, что не замечают трехдневной щетины и заплаканных глаз. Мой коллега Гендлер, отсидевший свое в Мордовии, говорил, что в лагере нет большего оскорбления, чем попрекать сектантов несбывшимися ожиданиями. В Америке, собственно, тоже. Не выдержала только пятидесятница Анжела, с которой я подружился после того, как провел воскресенье в ее буйной негритянской церкви.
– Ну что, – ехидно сказала она, – ваш не встал, а наш еще как!
– Это как сказать, – взвился Мендель, но я не дослушал теологического спора, потому что меня интересовала не теория, а практика.
То, что мир не кончился, когда от него этого ждали, еще не значит, что этого никогда не случится. Мы даже точно знаем как: Земля растворится в Солнце. Но я не могу ждать семь миллиардов лет, и мне надо знать, что будет, если это случится завтра.
* * *Те, кто читал “Апокалипсис” в оригинале, жалуются, что его нельзя перевести на человеческий язык, потому что он не на нем написан. Иоанн пользуется диким арго, на котором могли изъясняться панки Патмоса или, рискну предположить, Платонов. Охваченный нетерпением, пророк почти бессвязно, как на рок-концерте, выкрикивает свои откровения. Истина давится словами, потому что она несравненно важнее их. (Нечто подобное я слышал на представлении в чинном Линкольн-центре, где, корчась и рыча, Мамонов демонстрировал публичное рождение освобожденной речи: “крым-мрык-крым”.) Во всяком случае, такого больше нет во всей Библии. Не зря она завершается “Апокалипсисом” – больше сказать нечего. Конец прекращает историю вечностью, которая упраздняет ход времени. Дальше ничего не может быть, как ничего не было в начале. Но одно не равно другому, а противоположно ему. То, что началось тьмой над бездной, завершится светом без тьмы: ворота Небесного Иерусалима не будут запираться днем, а ночи там не будет вовсе.