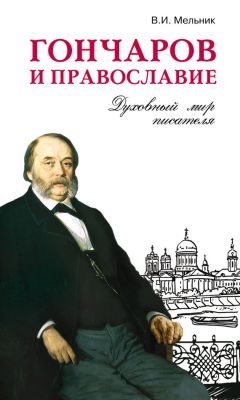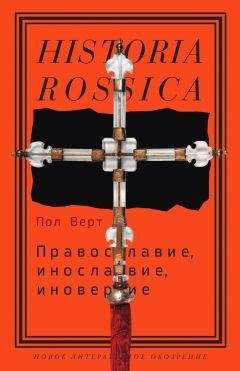Александр Генис - Уроки чтения. Камасутра книжника
25. Диссидент
Перед отъездом в Америку я совершил сделку редкого интеллектуального идиотизма – обменял любимые книги на необходимые: O’Генри – на Писарева, Фолкнера – на Белинского, восемь томов Джека Лондона – на девять Герцена. Не веря своему счастью, выигравшая сторона не удержалась от вопроса.
– Этого я наемся у стен Вероны, – отодвинув макароны, сказал кадет Биглер, когда узнал, что Италия перешла на сторону Антанты, – ответил я цитатой из Швейка, которая означала, что американцев я буду читать в оригинале. Как, впрочем, и Герцена.
Герцен действительно поддерживал меня на чужбине, причем буквально, потому что в нашем бруклинском жилье-подвале не было мебели, и первый Новый год в США мы встречали, сидя на стопках книг. Чувствуя под собой разъезжающийся коричневый девятитомник, я знал, что для него придет время.
Оно действительно пришло, но лишь тогда, когда я накопил столько былого и дум, что решился сравнивать.
* * *Герцена можно читать только на свободе. В России смешно (если тут подходит это слово) сравнивать – мешает нажитый с помощью больной истории комплекс, который Томас Манн называл “высокомерием страдания”.
В рижском музее оккупации на нарах лежат муляжи, изображающие лагерный быт сосланных латышей.
– Туфта, – сказал мне об этом сердитый отставник, – ну, посудите сами, кто бы им сооружал нары – на земле поспят.
Нужна изрядная временная и пространственная дистанция, чтобы непредвзято прочесть “Былое и думы”, но и тогда это не просто.
Герцен презирал Маркса и его “марксидов”, не знал Ленина и не дожил до победившей революции. Это его извиняет только отчасти, потому что все равно мне трудно читать про то, как он мечется по Европе, стараясь зажечь, где получится. Если для xix века Герцен – Овод, то XXI мерещится бен Ладен.
Чаще, впрочем, Герцен напоминает Чацкого: Случалось ли, чтоб вы, смеясь? или в печали? ошибкою? добро о ком-нибудь сказали? И это правильно! “Былое и думы” – прежде всего комедия, причем даже не столько нравов, сколько характеров: автор никогда не пройдет мимо смешного лица. Уже этим отец диссидентов радикально отличается от их деда – Радищева, который тоже пытался острить, но неудачно: его душила ярость человечества. Герцен, который умел ненавидеть не меньше, не орудовал веслом с лопатой. Как рапира, его злость у́же и тверже. Поэтому русская часть книги полна злодеев убийственно нелепых и в принципе смешных, начиная с самого царя.
Такова сцена, где Николай, подняв ночью придворных, заставляет несчастного Полежаева читать вслух его фривольную поэму “Сашка”. Как Август – Овидия, Николай ссылает легкомысленного поэта, надеясь тем исправить нравы империи, такой же необъятной, как Римская. Трагичен исход, комичен – масштаб. Абсурд системы – в ее избирательности. Важно только неважное, и правосудие карает не за то, что нужно, не за то, что можно, не за то, что стоило бы, а того, кого лучше видно, вроде Пушкина. Царю есть дело до всего, что читают и пишут его подданные, а президенту, скажем, это до лампочки.
Возвращаясь домой из дворца, Герцен накапливает полную колоду гротескных персонажей, утешающих автора своей дремучей самобытностью. Отечественная словесность от Фонвизина и Щедрина до Шукшина и Довлатова отдыхала на чудаках и чудиках, не способных вписаться в любую категорию. Откладывая гражданское негодование, Герцен замечает каждого и не отпускает, не перечислив всех диких черт и забавных примет.
Почтенный старец этот, – пишет Герцен об одном из родственников, – постоянно был сердит или выпивши, или выпивши и сердит вместе. Другой хвастал тем, что съедал до ста подовых пирожков. Третий боялся женитьбы и уверял, что никто в нормальном состоянии никогда не решится на такой страшный шаг. И уж, конечно, Герцен не обошел отраду русского автора – дикую поэзию кутежей. Отмечая с помощью автора Новый год шампанским, ямщик насыпал перцу в стакан, выпил разом, болезненно вздохнул и несколько со стоном прибавил: “Славно огорчило!”.
Издеваясь над русским абсурдом, Герцен заскучал по нему лишь тогда, когда, добравшиись до германской границы, навсегда простился с отечеством: Вот столб и на нем обсыпанный снегом одноголовый и худой орел… и то хорошо – одной головой меньше.
* * *Нерв заграничной части книги – зверское разочарование в заграничной части мира. Герцен ждал от нее свободы, а нашел трусоватых обывателей, готовых удовлетвориться хорошей жизнью, ради которой автору точно не стоило покидать родину. Отсюда – обида на Запад, знакомая всем эмигрантам, всегда ждущим другого.
Банальность этой реакции чуть портит книгу. Путаясь в подробностях революционного движения, знакомясь с его героями, либо забытыми, либо увековеченными на площадях и валюте, я стыдился признать, что Герцен меня раздражает, как фанат чужой команды. Самого Герцена, впрочем, они раздражали еще больше. Продолжив за рубежом свою комедийную картотеку, он меньше всех щадил соратников. Кумиры неудавшихся восстаний, они казались надутыми и смешными, как Наполеон в изгнании или Керенский в Нью-Йорке. Хористы революции, – говорил Герцен, – пишут шифром и химическими чернилами новости, напечатанные голландской сажей в газетах. И это мне тоже знакомо:
– На вашем радио “Свобода” – полно чекистов, – предупредил меня товарищ.
– Ничего страшного, – ответил я, – все, что мне есть сказать, я говорю в микрофон.
Но больше своих Герцена сердили чужие народы, и описание их составляет упоительное чтение в наш политкорректный век, упраздняющий понятия “немец” или “француз”, заодно с “мужчиной” и “женщиной”. Герцен писал, ничего не стесняясь, но иначе, чем про русских. Если дома он видел резко очерченные личности, которых трудно перепутать и нельзя забыть, то за границей Герцен искал типы, в которые вмещаются целые народы. У немцев противна простота практических недорослей, англичане – будто спросонья, позеры-французы исполнены задних мыслей и заняты своей ролью, и только в итальянце он нашел родную душу. Скорее бандит, чем солдат, итальянец имеет ту же наклонность к лени, как и мы; он не находит, что работа – наслаждение; он не любит ее тревогу, ее усталь и недосуг.
Эта старомодная и бесцеремонная манера напоминает глобус “Диснейленда”, позволяющий совершить кругосветное путешествие за 80 минут, чтобы найти в Японии самурая, а в Мексике – сомбреро.
Герцен, разумеется, несправедлив, потому что на Западе он пренебрег тем, о чем мечтал в России, – законом, парламентом, конституцией. Но дело было не в институтах, насаждение которых, строго говоря, могло бы стать делом его жизни, а в том, что на Западе Герцен не нашел своих. А без них мир был нем, как бы хорошо Герцен ни знал языки Европы.
Побродивши между посторонних, я перестал в них искать своих и отучился – не от людей, а от близости к ним.
* * *Я не знаю – и уже никогда не узнаю – более увлекательного чтения, чем то, что доставлял нам самиздат. Никакие соблазны души и плоти, никакие Буссенары и “Лолиты”, никакие анекдоты и сплетни не сравнятся с тем наслаждением, которое я испытал, когда мы всей семьей, включая мою любимую малограмотную бабушку, ночь напролет передавали друг другу папиросные листочки “Архипелага ГУЛАГ”.
Восторг не утих и сегодня. Дерзким экспериментом кажется уже поэтическое название с запоминающейся, как ГУГЛ, аллитерацией, внутренней рифмой и причудливой, почти приключенческой метафорой: острова в океане, путешествие к каннибалам, спуск в ад. Эта книга не может устать и состариться – в отличие от многих других, в том числе – самого Солженицына. Его старые романы, вроде “Ракового корпуса”, выделялись темой, а не стилем. Его поздние романы, вроде “Красного колеса”, лучше читать в переводе, и не мне. Но “Архипелаг” не сумеет убить даже одобрение Кремля.
Эта хроника изуверства награждает нас чувством углубления жизни. Прочитав “Архипелаг”, нельзя не измениться. Это как благая весть, только наоборот, но она тоже отрывает нас от обыденного и выносит к иному. Поворот не политический, а метафизический, последствия которого необратимы. Поэтому, собственно, Солженицын и победил. Убедившись в этом, власть к нему пристроилась, зарыв с караулом и включив в школьную программу.
И в этом – гений диссидентских книг, которые сами собой, чуть не тайком от автора, превращаются в литую прозу, простую и честную, как у Пушкина и Хемингуэя. Так написаны лучшие книги той библиотеки сопротивления, которая так же верно служит русским читателям, как Плутарх – всем остальным. Солженицын и Шаламов, Надежда Мандельштам и Абрам Терц, наконец – Буковский.
Как стихи – языку, диссидентская литература обязана власти. И не абстрактной, на манер жестяной австро-венгерской машины Музиля и Кафки, а живой, полнокровной, омерзительной и своей: крысы в подполье. Достигнув полюса зла, словесность меняет слог, реальность – личность, как это случилось с Ходорковским – где еще умеют превращать миллионеров в героев? И все же власть тут пассивная, словно земное притяжение, сила. Важней не она, а он – автор. Хотя его часто называют “политическим”, диссидент не занимается политикой, он заменяет ее. Впрочем, хороший политик и должен быть дилетантом, как Гавел. На президентов не учат, профессиональный политик – это царь. Других ведет успех, судьба, безобразия власти и завидный опыт преодоленного страха.