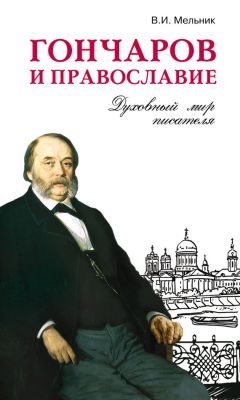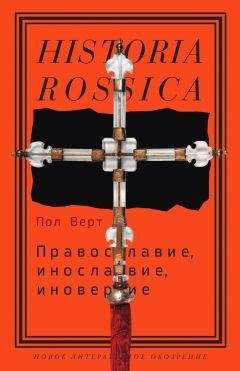Александр Генис - Уроки чтения. Камасутра книжника
Накопленные и отобранные веками, старые книги нужны нам не меньше, чем предшествующим поколениям читателей, только по-другому. Я, например, люблю рыться в отработанных рудниках классики в поисках того, чем пренебрегали первые старатели. Раньше у литературы было меньше конкурентов: танцы, сплетни, паб. Зная, что впрягшемуся в роман читателю особенно некуда деться, Диккенс умел держать его в напряжении. Чередуя опасности, перемежая счастливые случайности с фатальными, он на три тома откладывал свадьбы и похороны.
Однако уже Честертон сомневался в романах Диккенса, предлагая считать его прозу сплошным потоком с отдельными узлами, незабываемыми героями и блестящими главами, чей самостоятельный успех не зависит от того, откуда мы их выдрали. Сегодня, когда главным “сюжетоносителем” признан экран, соблазн того, что будет дальше, стал еще меньше. Собственно, поэтому я читаю Диккенса стежками, сосредотачиваясь на второстепенном: не краски, а грунт. И это – не каприз, а принцип.
В старой книге фон – барон, и я всегда готов обменять тривиальный, будто взятый напрокат сюжет на подкладку текста.
Фон – плод индивидуального, как походка, выбора – служит книге внутренним пейзажем. У Диккенса в нем можно жить. Консервированный воздух старого романа. Город за стеклом волшебного фонаря. И ничего, что кебы и цветные фраки. Все равно близко: не Карфаген, не Рим, а смежная, как в “Гарри Поттере”, реальность, надежно запертая в позавчерашнем дне. В отличие от вчерашнего, он уже кончился, но еще не забыт, еще понятен, но уже безопасен, как ушедшее детство. С тех пор, кстати сказать, как я узнал в лондонском музее свои игрушки, мне всякое детство кажется викторианским.
23. Факт
Чудаков, который много лет дружил со Шкловским, не без обиды написал, что больше всех литературных разговоров того заинтересовал случайно всплывший в беседе факт: у диабетиков сладкие слезы. Меня это тоже заинтриговало, но, дождавшись диабета, я убедился, что это не так.
Однако и разоблаченный факт не перестает соблазнять ненужными знаниями. Больше всего их было в “Православном календаре Мартьянова”, который чуть не век выпускал в своей книжной лавке ее владелец. В профиль он напоминал букву Г, но, будучи офицером, все еще придерживал рукой сгинувшую в эмиграции саблю. Когда-то он стрелял в Ленина, и друзья-эсеры так и не простили ему промаха. Они приходили об этом поговорить, и я, спускаясь из типографии, где тогда работал, смотрел на них с восторгом и ужасом – как на привидения.
О тех и других – духах и заговорщиках – рассказывал мартьяновский товар. Одна книга называлась “Гоголь в КГБ”, другая притворялась репортажем из Атлантиды. На обычную жизнь Мартьянов зарабатывал отрывным календарем. По нему отмечали церковные праздники православные всех стран, кроме родной, где все еще хотели расстрелять его автора. В своем календаре дряхлый Мартьянов менял только даты, а занимательные факты на обратной стороне сохранялись с Гражданской и внушали мне благоговение. Я до сих пор натыкаюсь на заложенные между страницами брошенных книг листочки. Радиола, – делится один, – позволяет слушать музыку без оркестра. Жители Новой Гвинеи, – забивает его другой, – объясняются в любви, пустив стрелу в сторону суженой.
Календарь компрометировал информацию и ставил под сомнение мое детское желание всё знать. “Факты как море, – говорил он мне со стены, – познакомиться с каждым так же невозможно, как запомнить отдельную волну или выбрать нужную”.
Что же делает факт истиной? По-моему, ничего.
У меня есть друг-физик. Стоит с ним поговорить, как нормальное, с человеческой, но не его точки зрения, представление о реальности напоминает календарь Мартьянова: набор случайных, устаревших и перевранных сведений.
У меня есть друг-врач. Но его лучше не слушать вовсе, потому что медицинский факт предписывал умиравшему Достоевскому есть только красное мясо, решительно избегая овощей и фруктов. Как мы знаем, он все равно умер, а я поверил Ницше, который отрицал существование фактов, заменяя их интерпретацией, что хуже – своей.
Факты, однако, по-прежнему наполняли мою жизнь, и не замечать их было так же трудно, как, спотыкаясь о стол, верить не в него, а в идеальную платоновскую “стольность”. Вертясь под ногами, факты нуждались в структуре, как анархисты в полиции, помогающей им сформулировать свои претензии к действительности.
Проще всего, конечно, факты перечислить, и я с азартом занимался этой длинной игрой, пока не прочитал Борхеса. В одном его рассказе китайская энциклопедия справляется с разнообразием фактов, классифицируя их по бесспорным и безумным категориям:
Животные подразделяются на: а) принадлежащих Императору, б) бальзамированных, в) прирученных, г) молочных поросят, д) сирен, е) сказочных, ж) бродячих собак, з) включенных в настоящую классификацию, и) буйствующих, как в безумии, к) неисчислимых, л) нарисованных очень тонкой кисточкой из верблюжьей шерсти, м) и прочих, н) только что разбивших кувшин, о) издалека кажущихся мухами.
Посмеявшись вместе с Борхесом над ужимками порядка и потугами таксономии, я отдался безвольному импрессионизму, предлагавшему, как в казино, положиться на случай и выбирать факт так же, как я покупаю пиджак – первый слева. Много лет я мечтал начать книгу с тем же безапелляционным произволом, как это сделал римский софист Элиан. Его “Пестрые рассказы” и правда пестрые. Они открываются не с начала, не с конца, а как попало: Удивительно прожорливы полипы и уничтожают без разбора всё. Следуя за ним, я надеялся растормошить подсознание и снести завод причинно-следственных связей, который превращает в сюжет все живое. Из этого тоже ничего не вышло, но тут уже пора объяснить, зачем, собственно, мне нужен факт и почему я не могу без него жить.
* * *Накопив достаточный опыт, мы часто отказываемся от романов, справедливо полагая, что они, как любовь, склонны повторяться. В зрелости нам труднее поверить в мнимое разнообразие, которое достигается переменой слагаемых и ограничивается умеющим летать персонажем. С возрастом условность вымысла режет глаза и кажется неуместной, как в кино – котурны. Приходит печальный час, когда выясняется, что казавшийся безграничным мир художественной литературы на самом деле обозрим, как репертуар классической музыки, попасть в который куда труднее, чем из него выпасть.
С другой стороны, невымышленная словесность имеет дело если и не с бесконечной, то с неисчерпаемой реальностью, освоить которую призвана литература с иноязычной, как Рекс, кличкой нонфикшн. Всю жизнь я пытаюсь понять ее правила и играть по ним, даже зная, что они меняются вместе со мной и собой. Ведь любая классификация возвращает к перечню Борхеса и оставляет в луже. Мне достаточно того, что нонфикшн хоть и питается фактами, но живет автором, который включает и заменяет всех персонажей. Это – театр одного актера. Даже прячась за кулисами, он управляет действием, вовремя выпуская на сцену нужные ему факты.
Итак, фабулу нонфикшн определяет отбор, героем является тот, кто отбирает. Но, помимо явного, этот жанр разворачивает и тайный сюжет, разоблачающий автора, укрытого за природной объективностью текста. Тем интереснее и важнее его оттуда выманить. Особенно если автор – Пушкин, а книга – “Путешествие в Арзрум”.
Первый шедевр той культурологической прозы, которую мы бы теперь назвали нонфикшн, прокладывает маршрут странствия так, что он ведет путника из цивилизации к варварству и обратно. Выбрав южное направление, Пушкин разъединил евразийское отечество и отвел себе роль западного путешественника в восточную экзотику. Хотя он, в сущности, так и не вырвался за границы империи, ее окраины он посещает не столько ее подданным, сколько вольным дилетантом-джентльменом, барином, путешествующим для своего развлечения, а не из державного интереса. Даже война для Пушкина – частная, и едет он на нее, как Байрон – в Грецию. Штатский среди военных, Пушкин наслаждается нелепым и плодотворным для сюжета положением: в поисках экзотики он сам становится ею. Особенно тогда, когда ему, европейцу без мундира, турки норовят показать язык, принимая всякого франка за лекаря.
Переведя себя в пассивный залог, который предпочитает и его поэтическая грамматика, Пушкин открыт лишь тем впечатлениям, которые согласуются с его капризной ролью: скорее курская ресторация, чем Харьковский университет. Ведь он никому ничего не должен – даже музе: Искать вдохновения всегда казалось мне смешной и нелепой причудой: вдохновения не сыщешь; оно само должно найти поэта.
Так оно и происходит, ибо чем глубже Пушкин проникает в Азию, тем заметнее в нем оживает культурная память. Он едет на юг, а попадает в прошлое, быстро погружаясь в древность: встреченная калмычка превращается в степную Цирцею. Взяв Гомера в проводники, Пушкин уже не отпускает его, и за обедом: С ним выпили мы в первый раз кахетинского вина из вонючего бурдюка, вспоминая пирования Илиады. На Кавказе Пушкин вспоминает Плиния. Он переправляется через Куру по древнему мосту, памятнику римских походов и опускается на дно истории, описывая Арарат: Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к его вершине.