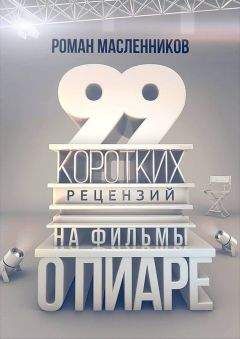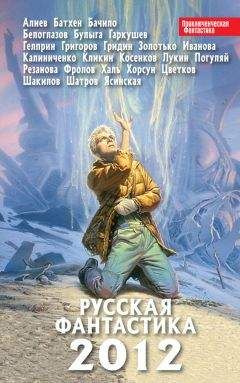Александр Чанцев - Когда рыбы встречают птиц. Люди, книги, кино
Д. Д.: Я как раз думаю, что ты трезво оцениваешь настоящее и, возможно, тебе удаётся заглянуть в ближайшее будущее текстовой коммуникаций в своей книге. Тема эта обширная и непростая, поэтому прежде, чем мы доплывём туда, имеет смысл определиться в терминологии, найти сцепки, общие пункты, которые позволят легче находить дорогу.
О том какую критику интересно читать писателям, я думаю, стоит спросить писателей. Что касается меня лично, я читал материал, на который ты ссылаешься, но не уверен, что способен внятно рассуждать на эту тему. Может быть, после (или в течение) нашего разговора что-то для меня прояснится.
Теперь в отношении «стиля» и «языка». Думаю, имеет смысл различать эти предметы: стиль – это свойство произведения, в то время как язык – это среда. Когда я говорю, что меня интересует язык, не имею в виду язык того или иного текста, но некую первооснову, воздух, которым дышит текст, все тексты (в том числе – ненаписанные и забытые). И когда я спрашиваю что есть «нормальный язык» Хабермаса или об отношении языка к смыслу, меня интересует не произведение, как некий упакованный и поданый к столу продукт, а кухня.
Возвращаясь к теме колумнистов и пустоты, могу сказать, что гонзо-журналистика для меня состоялась в лице одного-единственного автора (правильно, X. Томпсона), я не одолел колонки Эко, мне было смертельно скучно. Из русскоязычных колумнистов я одно время почитывал Рубинштейна, но и это в больших количествах для меня скучновато. Там в самом деле присутствует стиль. Но стиля – ты прав – не достаточно (по крайней мере, для меня лично). Я бы читал колонку Франсиса Понжа, если бы такая существовала. Или Юнгера, в самом деле. Леона Богданова или Виктора Сосноры.
При этом приём сам по себе мне кажется абсолютно приемлимым. Возможно, для меня это и есть идеальный текст – когда все его мотивы содержатся в нём самом.
В связи с этим следующий мой вопрос: о трёх разделах твоей книги. Как Пригов попал в раздел «Традиция», а Памук – в раздел «Эксперимент»? Вообще, расскажи немного о том, как эти разделы сформировались.
А.Ч.: О, колонки Юнгера – это было б прекрасно. Хотя он писал подобное – ведь колумнизм корнями в эссеизме – но только называлось это тогда «дневником». И хорошо, что так называлось, ибо существовало благодаря своей необязательности, в отличие от оплачиваемых колонок, которые, ты прав, даже у лучших авторов приедаются очень быстро. «Традиция», «эксперимент» – да, я осознавал, что внешне деление на разделы довольно волюнтаристское, даже хулиганское. Пригов (не говоря о том, что в прозе он нарочито не так инновационен, как в поэзии) работает в разбираемой мной там книге «Только моя Япония» с древней темой некоей волшебной страны на Востоке, выдуманной, наделенной мистическим смыслом, несуществующей, но чаемой. Это: от путешествия Одиссея – через Шангри-Ла – до «Внутренней Монголии» Пелевина. Памук же, хоть, конечно, и происходит из восточной, традиционной страны (модернизированной, но все равно) и пишет внешне простые вещи, но в этом романе, «Музей невинности», да и в других, подпускает интересные кунштюки – уравнивает реальность со сном, воспоминаниями, работает с небанальной обсессией, создает сложносочиненные времена, вроде того, что сон, приснившийся когда-то в прошлом герою, становится отправной точкой для параллельной, но вполне равноправной реальности, и т. п. То есть на какие-то очевидные, как мне думается, примеры отнесения книг к какому-либо разделу (А. Мамедов для меня «традиционен», потому что в своей книге работает с суфизмом) приходятся не такие тривиальные (у Мисимы в свое время в Японии «не поняли» его гипер-гомоэротический роман «Запретные цвета», но гейская традиция в мировой литературе, на которую он опирался, это все же традиция, хоть и отчасти табуированная, поэтому у меня он был отправлен в раздел «Традиция»). В любом случае, меня как читателя всех этих разделов больше б фраппировала очевидность.
Д.Д.: Возможно ли в литературе (шире – в искусстве) явление «в себе», вне традиции?
А.Ч.: Поиск такого явления, решусь сказать, составляет в идеале смысл самой деятельности критика или скорее даже книжного рецензента. Тем более сейчас, когда в каждом искусстве сам бэкграунд, почти архив инновационных стратегий делает «внетрадиционное явление» почти невозможным (недаром даже в статьях в моем блоке «Эксперимент» часть анализа уделяется корням этого самого эксперимента). Что же касается самого термина «традиция», то для меня он маркирован несколько иначе – меня очень интересует та мировоззренческая часть ноосферы, которую с не очень хорошими коннотациями называют «правой», а более весомо – именно словом «традиция».
Д.Д.: То есть, «традиция» – это не то, что в отличие от «эксперимента» следует реальной традиции (поскольку реальной традиции следует все и вся – даже против воли), а то, что себя определяет в качестве «традиции», противопостовляя себя другим тенденциям, например – «разрыва с традицией». Притом, что никакого реального «разрыва» быть не может, конечно?
Вот я сам прочёл написанное только что и подумал, что на бумаге это выглядит совершенно абсурдно. А ты что думаешь по этому поводу? Может быть, дело не в реальной традиции, а в том, что гипотетический читатель подразумевает под «традицией»? Скажем, если есть тот правый элемент, о котором ты говоришь, возможно, он хочет выглядеть традиционно в глазах читателя, прекрасно при этом понимая, что реально никакой разницы нет, писать ли после Лескова или после Джойса? Что когда ты пишешь после Лескова, ты всё равно пишешь и после Джойса – даже если ты Джойса не читал, или читал, но не любишь, даже если ты всем телом текста пытаешься прокричать: я не такой, как ЭТИ, я такой, как ТЕ (или наоборот)?
А.Ч.: Ты совершенно точно подметил оба аспекта. Конечно, писать после Джойса так, будто его не было, невозможно – хотя бы потому, что читатель уж точно читает после Джойса (да и стояще писать после Джойса так, будто его не было, может только гений сопоставимого масштаба). И да, в качестве рабочего, но очень хорошего определение традиции в мировоззренческом понимании этого слова можно дать апофатическое – например, «традиция – это то, что противопоставляет себя разрыву с традицией». Это хорошее определение для нынешней ситуации. Потому что, конечно, в пределе традиция не отталкивается от других вещей (отталкивается как раз постмодернизм, порождение левой идеологии, который немыслим без объекта деконструкции, приложения своего интертекстуального аппарата, как шутка невозможна без высмеиваемового), а продолжает довольно древнюю линию, направленную на примирение того примордиального разрыва, что при известных обстоятельствах имел место в Эдемском саду (дословное значение «религии» – «восстановление связи»). Увы, после коммунизма и фашизма, всего XX века все так боятся «больших идеологий», big idea, что даже заикаться об этом автоматически воспринимается как моветон – сама идея «большой идеи» профанирована и высмеяна до основания. Да и кого можно предъявить традиционалисту в споре с леволибералами? Священное писание? Генона, Ренана и Эволу? Юнгера и Монтерлана, Клоделя и Кайзерлинга? Работающих в сфере религии Федорова, Тейяра де Шардена и Даниила Андреева? Большинство из них не существует в общественном сознании, призваны мной сейчас из интеллектуальных сусеков. Да даже у нас имена Лосева, Даниила Андреева и Головина не только вызовут споры и оговорки касательно их атрибуции, но и «бьются» такими действительно профанирующими персонажами, как поздние Дугин и Лимонов, по доброй воли (но, видимо, не от хорошей жизни) ставших чучелами в интеллектуальном огороде. Между тем, традиционалистская линия нужна. Хотя бы как альтернатива леволиберализму и посткейнсианству, которые, кажется, утомили даже их адептов (можно почитать последние номера «Неприкосновенного запаса», «Пушкина» и «Логоса», где переводятся и рецензируются довольно свежие работы западных философов и социологов, чтобы удивиться – из самоей ойкумены леволиберализма он критикуется так, как не каждый правый будет его критиковать!) и такому их эстетическому продукту, как постмодернизм, который уже откровенно «достал». Позитивизм со всеми его порождениями, когда он не имеет альтернатив, имеет тенденцию приводить к печальным последствиям. Потому что тот же леволиберализм, конечно, никакая не идеология (он – вспомним постдвадцатовечную идеофобию – таковым и не должен был быть), а всего лишь система запретов под соусом красивых лозунгов. Эти запреты не спасают от больших бед (те же войны, которые ведут страны-флагманы соотвествующей идеологии), но легитимируют мелкие, но раздражающие ограничения свобод (политкорректность, повсеместный контроль, антитабачный фашизм и т. д.). Вряд ли это сбудется, но, возможно, кто-то начнет хотя бы проговаривать будущую, наступающую тенденцию, и мы еще увидим рост – а точнее, «великое вовзращение» – традиционалистской идеологии.