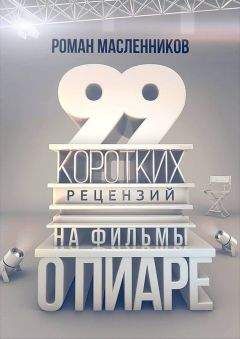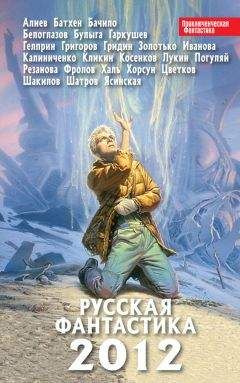Александр Чанцев - Когда рыбы встречают птиц. Люди, книги, кино
А.Ч.: Еще один банальный, как и про понравившиеся книги, вопрос – но очень любопытен ваш ответ. Что вы пишите сейчас, что должно выйти?
В.К.: Я пишу роман под рабочим названием «Девушка с веслом», действие которого разворачивается на юге, в черноморском городе, похожем на Сочи, в наши дни. Там три линии: мужская, детская и юношеская, пунктиром – женская. Даны будут портреты наших современников на фоне города, который еще никто, насколько мне известно, не описывал. До определенного момента это реалистический, может быть даже – производственный и школьный роман. Но затем, когда каждый из персонажей, – в силу обстоятельств, – оказывается у последней черты, всё кубарем катится в самую разнузданную небывальщину. Из которой, в конце концов, герои должны выкарабкаться. По жанру это – бюрократическая мистерия (поскольку помимо главных героев там действуют мэр города, начальник полиции, следователь, нотариус, судья и т. п.), пока я определила бы так. Роман почти готов, но кто его напечатает – я пока не знаю.
Дмитрий Дейч. Критика гибридных форм
Выход книги «Литература 2:0: статьи о книгах» (НЛО, 2011) стала поводом для разговора Дмитрия Дейча (Тель-Авив) с Александром Чанцевым об искусе колумнизма, трансгрессии культуры, российско-японской общности, правой альтернативе неолиберализма и геройстве Мисимы.
Дмитрий Дейч: Прежде всего я хотел бы обратиться к цитате из Хабермаса – из предисловия к твоей книге: литературная критика «переводит содержание произведения искусства с языка переживаний на нормальный язык», – пишет Хабермас. Казалось бы – всё совершенно ясно из самой цитаты. Имеется некий «язык переживаний», ему сопутствует (и ему же противопоставляется) «нормальный» язык». «Нормальный» – в смысле – распространённый, всеобщий, как бы растворённый в социуме. «Язык переживаний», видимо, – литературный, отстранённый от чьей-то повседневности, «авторский» язык. Всё вроде бы ясно, и всё – абсолютно непонятно. Ясно – на первый взгляд. Непонятно – как только мы задумаемся о том, почему «язык переживаний» нуждается в переводе. И в самом ли деле это расстояние, этот разрыв настолько реален, что нуждается в мостике, соединяющем берега. Быть может, это противопоставление мнимо? Давай уточним. Что такое «нормальный язык»? Что такое «язык переживаний»?
Александр Чанцев: Да, я понимаю, что эта интенция – перевод природного авторского на повседневный общеупотребительный – может показаться поверхностной, даже вульгарно-обывательской. Например, где-то в начальной школе я мало что так ненавидел, как предисловия к хорошим книгам – объясняющие тебе, как надо воспринимать это произведение, и неизменно его при этом заземляющие, профанирующие. Но есть другой аспект – который я и пытался, возможно, неудачно, подчеркнуть в том же предисловии – коммуникации, от двойственной (автор-читатель), умножающийся до «тройственного союза» (критик втесался со своей репликой). Например, «Происхождение немецкой барочной драмы» Беньямина – мало кто, думаю, будет читать сейчас эти самые драмы, но анализ Беньямина – прекрасное путешествие ума, игра воспарившего духа. Или такая волшебная книга, как «Судьба нигилизма», где взвешенный Юнгер в эссе «Через линию» комментирует себя юного, его в свою очередь трактует Хайдеггер, а потом к ним присоединяются со своими комментариями два философа помоложе. Или Деррида, написавший к «Началу геометрии» Гуссерля предисловие большее по размеру, чем сам текст Гуссерля. Я в данном случае несколько радикализирую, протягивая руку за примерами за границу философского, но делаю это сознательно – настоящая критика, конечно, не объясняет, что «Холден Колфилд… был представителем рассерженной молодежи», а в своем говорении равноправна и самоценна, если достигает пределов мысли (и даже текста) и выходит за них, как у тех же Беньямина, Юнгера, Деррида. Если оперировать твоей образностью, то критика – не индустриальный мост поневоле над рекой, которую всенепременно надо пересечь гужевому транспорту, но один из нескольких мостиков к островкам в пруду в японском саду, как, например, в парке при Храме Мэйдзи в Киото. Это храм расходящихся тропок, восходящих, и ты волен выбирать, какой дорогой придти, чей голос (журчания реки, ветренное подрагивания колокольчика или шелеста бамбука) интересней, важней сейчас слушать….
Д.Д.: То есть – критика это не метатекст, а текст? И – возможно – сегодня (вернее – вчера) критический текст стал самовластным, ведь у нас имеются книги примечаний к несуществующим текстам, рецензии на несуществующие книги и т. п. В таком случае – возвращаясь к моему вопросу: существует ли «нормальный язык», о котором пишет Хабермас?
А.Ч.: Критика в идеале видится мне красивым, сложным и интересным текстом, гордо, но дружелюбно идущим рядом с текстом авторским. То есть это текст и метатекст – может быть, я валю слишком многое в одну кучу, но как тексту войти ядром в атом метатекста, если текст изначально не обладает ценностью? Моменты перехода вообще стали в прошлом веке значимы, и эта трансгрессия очень интересна. Примечания к несуществующему (что недавно делал наш с тобой друг Андрей Лебедев, составляя каталог несуществующей выставки) – это же просто пример к словарной статье о том, как критика переходит в самоценную прозу. Или опять же у Беньямина, Брехта, Рансьера этот дискурс эстетизации политики и политизации искусства. Или же то, что сейчас довольно избито зовется «междисциплинарностью», когда с помощью Платона талантливо анализируют тайское кино, а книгу, наоборот, разбирают киноведческим методом. Это даже не вавилонское смешение языков (мы сейчас не говорим про неудачные случаи), в этом больше от мультикультурализма, говорят же, что метисы часто красивее своих родителей разных наций… Что же касается «нормального языка» Хабермаса, то я все же не полностью в ответе за него. А как это воспринимаешь ты, почему тебе так важен смысл этой исходной посылки?
Д.Д.: Для меня вопрос языка вообще самый главный (может быть – единственный), я думаю, что выбор языка или «попадание» в язык, «схватывание» или пребывание внутри языка – это и есть единственное, что мы можем осознать, когда пишем. Возможно, происходит в этот момент (самый момент письма) много всякого-разного, но доступным для восприятия, как мне кажется, остаётся лишь близкое нам на тактильном уровне – течение текста, его движение, некий ток, пронизывающий нас и достигающий – …кого?
Меня интересует механизм (или организм) письменного языка, наверное, поэтому так важен этот разговор. В самом деле, я вижу, что твоё профессиональное текстовое поле по своей природе шире моего, поэтому если задавать эти вопросы – кому как не тебе? Поэтому я с твоего позволения буду въедливым, цепучим и временами просто мерзопакостным – в интересах той самой «правдочки», которую можно было бы назвать мелкой или незначительной, если бы я не испортил столько лопат, заступов и прочего садово-ягодного инвентаря, пытясь извлечь её на поверхность.
Ладно, давай оставим в покое Хабермаса и выпишем на манжет следующую цитату из твоего предисловия. Троица: читатель – критик – автор. Смыслы, которыми критик оперирует, среди которых – как очевидные, так и «… возможно, несуществующие, но предполагаемые, чаемые, витающие где-то между компьютером автора, обложкой книги и взглядом читателя». Смысл – это и есть единица критического высказывания?
А.Ч.: Безусловно. То (или не совсем то?), что ты называешь языком, я бы назвал стилем. Чем свободней, тем интересней. Но его анализ мне хочется видеть хоть и субъективным, но математически четким, алмазно-скальпельно четким. Сначала должны быть выделены механизмы, шестеренки авторского текста – только потом может начаться субъективный рассказ критика о том, каким супом тянуло в его открытое окно, когда он перелистнул первую страницу. Субъективное интересно и оправданно для меня в очень редких индивидуальных случаях. У нас же все, как на бахтинском карнавале, перевернулось с ног на голову: начинают о себе, потом вспоминают о книге. Это, грубо говоря, даже исторически неоправданно – если на Западе сильнее традиция «публичного стриптиза», talk и stand-up show, гонзо-журналистики, то у нас такого не было, но многие считают, что сразу научились (поэтому так смешно, например, читать в русском «Роллинг стоуне» репортажи в стиле «журналист N провел несколько дней с группой NN»). Крайняя степень этого, финальное воплощение – колумнизм. 99 процентов колумнистов – а я читал очень хороших, честно – приходят к тому, что пишут ни о чем, но из пустоты нельзя выжать смысла (если ты не буддист), но только дистилянт пустоты же. Извини, что сейчас было несколько эмоционально, но это, надеюсь, не только личное, но и констатация общего вектора, обреченной в силу своей мертворожденности устремленности. Колумнистов нужно заставить читать Чорана, Юнгера и Бодрийяра, если же они после этого посмеют продолжать писать, то отбирать у них компьютер. С другой стороны, соблазн колумнизма чрезвычайно велик, таит и благо (им, как в Эдеме, просто не так воспользовались). Это – абсолютная свобода темы (берем, например, газетные колонки Эко) и стиля. В стиле же (мы не говорим про какие-то требования к «формату» того или иного издания) спасение – его можно выковать до крепости дамасской стали, полностью расшатать (а внешне расшатанный стиль внутренне не вял, наоборот – вспомним фразу Введенского «меня интересуют три темы – время, смерть, Бог. <…> Все это сверхразумные бессмыслицы» – обладает неким иным сверхсмыслом) и откинуть, как разум при глубокой молитве/медитации. Там и произойдет вознесение интерпретации до уровня интерпретируемого, уравнение их смыслов и рождение третьего от их столкновения. Поэтому сейчас, если честно, небольшое эссе о вчерашнем концерте или фильме в интернет-издании мне, возможно, интересней, чем большая фундированная литературоведческая статья в толстом журнале. К тому же Интернет со всеми его трафиками кликов, айлайками, подложенными линками и комментариями – это новый этап того перехода, трансгрессии, о котором говорил чуть выше… И, конечно, коммуникативный аспект. Может, я выбрал тут легкий, сиречь порочный путь, но это все так интересно… А какую критику интересно читать писателям? Что ты прочтешь свободным воскресным вечером «для себя»: Помнишь, недавно был такой опрос в «OpenSpace» о критике[30]… И еще интересно, считаешь ли ты мои идеи об интернетной текстовой коммуникации совершенно завиральными?