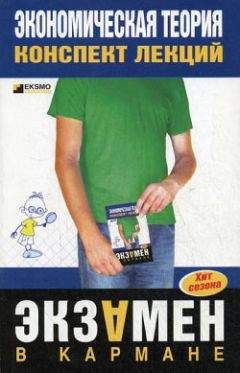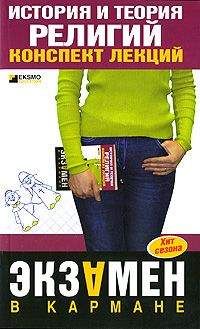Мирослав Попович - Кровавый век
Совращение богочеловека Христа в пустыне – это соседство Бога с нечистым, что является непременным признаком человеческого существования и придает последнему характер трагической борьбы. Пришествие Христа, и в частности, второе пришествие, с большой апокалиптической катастрофой («Страшным судом»), – это христианский аналог возвращения Одиссея. Конец истории мыслится как переоткрытие вечных ценностей, в ходе которого неминуемо «распадается связь времен» (the time is out of joint).
Не случайно первое послесталинское произведение в СССР, которое вызывало гнев правителей, называлось полностью в духе евангельской традиции Достоевского: «Не хлебом единым» Дудинцева.
Постмодерн превращает каждое мгновение современной истории в «конец света», поскольку каждое мгновение является в то же время «началом мира» – будущего нет, его ежесекундно творят живые из того материала, который дает современность. Это ли черта новейших времен? Скорее нет – так было всегда, что, собственно, и утверждают философы постмодерна, разоблачая традиционалистскую привязанность к надвремени как консерваторов, ориентированных на вечные ценности прошлого, так и либералов, которым диктуют поведение вечные ценности из будущего. Это – позиция самая радикальная, и радикальнее может быть только опасное соседство с вульгарным «бери от жизни все, что можешь». Последовательно защищая философию «сейчас», мы действительно разрываем связь времен и оказываемся в хаосе отдельных воль. Возможно ли, что это единственный путь, где можно переосмыслить все и заново найти самые надежные позиции, которые свяжут рассыпанное время?
В одном тесном глобализующем обществе живут прошлые и будущие эпохи, и это наполняет атмосферу XX века тем страхом-депрессией Angst, который в келье Лютера порождает Люцифера. Это, к сожалению, не метафора, потому что сегодня вместе и рядом живут палачи-убийцы и их потенциальные жертвы. В начале века в колониальных закоулках планеты агрессивная инициатива была у «белых» хозяев, сегодня она у тех, кто усвоил верхушки западной цивилизации и сохранил и приумножил ненависть униженного и закомплексованного. И нет надежды на то, что когда-нибудь все эти драмы будут исчерпаны, а человечество вернется к потерянному «золотому веку» в виде обретенной Итаки или построит «светлое будущее» из принципов и норм, заданных а priori.
Трагедия человека заключается в том, что в этот современный мир, мир «здесь и сейчас», включено прошлое с его ужасами, «архаичными фантазмами и концептами, примитивным концептуальным фантазмом сообщества, государства-нации, суверенности, земли и крови» (Деррида).
Nota bene можно заметить, что к настроенным в духе вековечного «пред-постмодерна» справедливо было бы отнести не только Сервантеса, Рабле, Стерна и Шекспира, но и Достоевского. Разочарованные русские левофурьеристы создали антиэволюционистскую социальную и философскую концепцию, лишенную либеральной идеи прогресса как смысла истории и ориентированную на вневременные «почвенные» ценности. Смирившись с консервативной властью, признав, что великая империя – единственное достижение российской истории, они пророчили, что каждая попытка исторического порядка в направлении «светлого будущего» только возродит старые пережитые ужасы. И в этом было зерно истины, которое, к сожалению, реализовалось в практике большевистской революции. Российский антилиберальный критицизм утверждал, что прогресс возможен только как моральный прогресс, и здесь тоже есть своя правда. Мерки прогресса моральны, «научно-технический прогресс» или социальное продвижение с моральной деградацией просто не является прогрессом. Можно объяснять евангельский сказ о совращении Христа в пустыне как притчу о недопустимости использования экономических искушений («хлеба»), власти и гипноза веры в чудеса для торжества христианской веры. Достоевский, в сущности, объяснял совращение Христа в пустыне как независимость морали от мира денег, власти и слепой веры. Высокая человечность и нравственность превыше всего должна торжествовать независимо от экономических, властных и сверхъестественных факторов.
Поэтому привычные и правильные слова Достоевского и другого «почвенника» – Данилевского как консерваторов должны быть существенно дополнены. Вообще говоря, эти явления находятся выше контекста тогдашней российской истории и несопоставимы с заурядным политическим консерватизмом. Уроки истории XX века созвучны с предостережениями больших гуманистов прошлого, если даже они были неправы как политики. Не случайно к философии Достоевского левые мыслители XX века обращаются чаще, чем реакционеры.
Серьезное переосмысление теории и практики социализма, собственно, начинается в Советском Союзе с переоткрытия Достоевского и, в частности, с небольшой статьи Юрия Карякина «Антикоммунизм, Достоевский и достоевщина», опубликованной, как это ни парадоксально, в международном органе коммунистических партий – журнале «Проблемы мира и социализма».
Призраки Маркса
Нередко говорят о кризисе, в котором в 1980-х гг. очутилась экономика СССР и его сателлитов в результате избыточного напряжения, вызванного гонкой вооружений. Действительно, имея в 6–8 раз меньшие производственные возможности, за время «застоя» СССР сумел уравнять соотношение сил, тратя при этом на войну непосредственно около трети, а с учетом непрямых расходов – по-видимому, около половины всего национального дохода. Была ли социалистическая экономика в канун Перестройки в состоянии экономического кризиса?
И в нормальном развитии современность всегда содержит множественность возможных миров, о весе каждого из которых можно говорить лишь в терминах вероятностей. Кризис означает достаточно высокую вероятность краха всей системы; однако, может оказаться, что система, пройдя через кризисную точку, «точку бифуркации», окажется, по выражению Лейбница, в «лучшем из возможных миров» или «свалится в хорошую структуру», как говорят математики. Решить судьбу может или случайность, или ряд умных или, напротив, ошибочных стратегических решений.
Сценарий развития кризисных событий в рыночной экономике одинаков везде: кризис фондового рынка, кризис рынка валютного, разорение банков и обрушение финансовой системы, и, наконец, хаос и перспектива краха социально-экономической системы в целом – возможность, которая вызывает к жизни кардинальные спасительные стратегии. В СССР, где имели цену продукты производства, но не предприятия, фондового рынка не было, и можно говорить только о динамике и эффективности производства, которые не находили отображения в денежной оценке предприятий в виде цен на их акции.
Стагнация производства назревала давно, стала явной в период Перестройки (в Украине рост прекратился в 1990 г.), но в полутоварном, полугосударственном сельском хозяйстве трудности были всегда.
Можно твердо сказать, что система производства в СССР не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности была неэффективной или малоэффективной. Вопреки предсказаниям Ленина, советский социализм не создал экономику с производительностью труда выше, чем рыночная. Нам постоянно приходилось догонять технологические достижения Запада, концентрируя все средства, ресурсы и усилия на избранных направлениях, и чем более тонкие технологии порождал научно-технический прогресс, тем более сказывалась неповоротливость и примитивность системы «развитого социализма».
В последний хрущевский год начался импорт хлеба, а симптомы краха сельского хозяйства очевидны уже с начала 1980-х гг., когда оно стало не просто неэффективным, но и убыточным. Общий кризис экономики наступил только после падения коммунистического режима, в 1992 г., когда гиперинфляция и обвальное сокращение производства подвели к краху финансовой системы и в России, и в Украине.
Большие предприятия в СССР предназначались для безусловного выполнения напряженных и масштабных государственных заданий. Если учесть, что для изготовления основной продукции требовалась иногда тысяча предприятий-смежников, то понятно, что промышленные предприятия, надеясь прежде всего на себя, создавали по возможности больше вспомогательных производств, нередко чуть ли не средневекового технического уровня. Директора накапливали на всякий случай огромные запасы, недопустимо обременительные с «капиталистической» точки зрения. Кроме того, предприятия не могли надеяться на государственное обеспечение своих сотрудников жильем, медицинскими, спортивными, детскими учреждениями и так далее и обрастали огромным грузом служб социального назначения. Подобное предприятие лишь около трети стоимости своих основных фондов использует для основного производства; около четверти фондов требуется для дополнительного и непрофильного производства.[812]