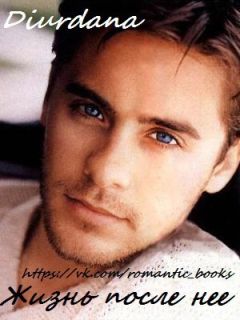Антон Нестеров - Колесо Фортуны. Репрезентация человека и мира в английской культуре начала Нового века
Сравнение роли монарха с ролью родителя – общий топос королевской власти, но Елизавета вносит в него особый акцент,[259] явственнее выступающий на фоне рассуждений на ту же тему Иакова I, который писал:
«В согласии с законом естественным, при коронации король становится естественным отцом для всех подданных; и как отец по долгу отцовства принимает на себя узы, обязывающие его заботиться о пропитании и образовании своих чад, равно и добродетельном ими управлении, так и король обязан заботиться о своих подданных. Труды и горести, которые отец взваливает на себя во имя своих чад, в глазах его необременительны и исполнены блага, ибо тем обретается богатство и благосостояние детей, – точно так же должен относиться к своим деяниям во имя подданных и владетельный князь. Добрый отец должен предвидеть все затруднения и опасности, которые могут возникнуть перед его отпрысками, и предотвращать их, пусть даже с опасностью для себя – так же должен поступать и король во имя своего народа. Отцовский гнев на детей, совершивших проступок, и наказание неразумных чад должны смягчаться жалостью, покуда есть хоть малейшая надежда исправить оступившихся, – так же надлежит действовать и королю в отношении своих подданных, повинных в том или ином прегрешении. Вкратце: как величайшее удовлетворение отца состоит в том, чтобы обеспечить процветание детей, возвеселиться от того, что они живут в достатке и благе, скорбеть и сокрушаться, коли их постигнет зло или несчастье, и рисковать во имя их безопасности, принимать на себя тяготы пути, дабы пребывали они в покое, бодрствовать во имя их сна. Словом – полагать, что его земное счастье и жизнь его более заключены в детях, нежели в нем самом. И так же надлежит думать владетельному князю о своих подданных».[260]
Мы видим, что Иаков подчеркивает дистанцию между владыкой и его вассалами, тогда как Елизавета с первых шагов своего царствования стремится внести в отношения с подданными определенную теплоту. Причем это – теплота, которая сродни теплоте, связывающей верующего и объект его мольбы: молящийся взывает к тому, что выше него, в надежде на снисхождение. Королева как бы фокусирует на себе чаяния своих подданных – неудивительно, что позднейшие исследователи говорили о том, что культ королевы заместил собой культ Богоматери.
Характерно, что в своем выступлении перед Парламентом 30 ноября 1601 г., ставшим своего рода политическим завещанием Елизаветы I, королева вновь возвращается к мотивам этой особой связи со своим народом:
«Есть ли владыка, любящий своих подданных больше, чем я, или владыка, чья любовь сравнилась бы с моей? Нет драгоценности, которая была бы мне столь дорога, чтобы я поставила ее превыше этого сокровища: вашей любви. Ибо ее я ценю более, чем любые сокровища и богатства, так как им цена известна, ваши же любовь и благодарность в моих глазах – бесценны. И хотя Бог вознес меня высоко, я все же считаю славой моей Короны то, что я удостоилась вашей любви. И радуюсь я не столько тому, что Богу было угодно сделать меня королевой, но тому, что Он поставил меня королевой над народом столь благодарным… И хотя у вас были и, возможно, еще будут на этом троне многие владыки, которые могущественней и мудрее меня, у вас не было и не будет властителя, который бы больше заботился бы о вас и любил бы вас более, чем я».[261]
Эта риторика Елизаветы была подхвачена современниками и неоднократно потом воспроизводилась в трудах многих авторов. Так, поэт и памфлетист Энтони Мандей (1553–1633) писал, что Елизавета «относилась к своим подданным как любящая мать и нянька».[262] В 1586 г., на волне увлечения эмблематикой, в Англии выходит книга Джеффри Уитни «Избранные эмблемы и прочие девизы…», искушенный читатель которой мог соотнести предлагаемые автором девизы с тем или иным из первых лиц государства.
Среди прочих в сборнике была и эмблема, изображающая Пеликана, и ее пояснительный текст гласил:
The Pelican, for to revive her younge
Doeth pierce her brest, and geve them of her blood.
Then search your breste, and as your have with tonge
With penne procede to do your countrie good:
Your zeale is great, your learning is profound
Then help our wantes, with what you doe abounde.[263]
(<Птица> Пеликан, чтобы оживить своих чад / Расцарапывает грудь и дает им испить своей крови. / Потому найди свою грудь и чем можешь – речами ли, / пером ли продолжай творить благо стране: / Рвение твое велико, ученость – глубока, / Помоги же исполнению наших желаний, что ты и делаешь премного.)
Этот текст явственно соотносился с Елизаветой, причем не только в ее ипостаси Королевы, но и в ипостаси главы англиканской церкви, поскольку Пеликан – символ Христа.
Позже, в сборнике Джорджа Визера «Собрание эмблем, древних и новых», вышедшем в Лондоне в 1635 г., мы видим, что изображение Пеликана, кормящего грудью птенцов на переднем плане, соотнесено с Распятием, помещенным в глубине рисунка, а девизу «Prolegeetgrege» («За своих <свой народ> и право») предпослано двустишие «Our Pelican, bybleeding, thus/ Fulfill'd the Law, and cured Us» – «Наш Пеликан, отворяя кровь, тем / Исполнил Закон и нас исцелил»;[264] тут графический образ и стихотворный текст свидетельствуют о двойной, светской и религиозной, соотнесенности эмблемы.
Geffrey Whitney. Chaice of emblems. London, 1586
Но вернемся к гравюре де Пассе. На второй колонне изображена личная импресса королевы – подъемная решетка замка, а на верхушке колонны – Феникс.
Вся композиция воспевала триумф Елизаветы, чьи чистота и самопожертвование во имя Англии обеспечили ей победу над испанцами. Обратим внимание на то, что Феникс считается солярной птицей (в частности, у Геродота и Плиния легенда о Фениксе связана с египетским Гелиополем – городом солнца), а Пеликан – лунной (из-за своего белого цвета и близости к воде). Но сама оппозиция «солнце-луна» в символике власти той эпохи была связана с оппозицией «власть Папы – власть императора». Папа выступал носителем солнечного начала (что, например, подчеркивается формой золотой папской тиары), император же, получающий власть от Папы и тем самым как бы светящий отраженным цветом, – ассоциировался с началом лунным.[265] Соединение двух этих птиц на картине указывало на то, что в лице Елизаветы происходит синтез светской власти ее как королевы и духовной – как главы англиканской церкви, и подчеркивалось, что после разгрома Испании, являвшейся основной защитницей католической идеологии, духовное лидерство в Европе переходит к Англии, защитнице идеалов Реформации. Колонны же, на которых восседают птицы (напоминая о легендарных Геркулесовых Столпах, отмечающих конец orbis habitatum[266]), должны были ассоциироваться с идеей империи, чья власть простирается до границ мира. Символика эта была хорошо известна, и к ней, например, обращался поэт Джордж Чапмэн в своих «Гимнах к Цинтии», воспевающих королеву, когда писал:
Forme then, twixt two superior pillars framd
This tender building, Pax Imperij nam'd…[267]
[Затем сформируй две эти величественные колонны, стоящие / по бокам этого изысканного здания, имя которому – Мир Империи…]
Wither George. A collection of Emblemes, Ancient and Moderne, Quickened with metricall illustrations, both Morall and divine: And Disposed into lotteries, that instruction, and good counsell, may bee furthered by an honest and pleasant recreation. London, Printed by A. M. for Henry Taunton, 1635
На создание империи была направлена вся внешняя политика Елизаветы с момента восшествия королевы на престол. По сравнению с временами правления ее отца, Генриха VIII, Англия сильно «ужалась» в размерах: при Эдуарде VI была потеряна часть континентальных территорий, введенных Генрихом VIII в зону английского влияния, а в результате опрометчивого вступления, при Марии I, в войну против Франции англичане лишились порта Кале, являвшегося важным континентальным форпостом английской торговли. Елизавета мечтала вернуть страну к тем границам, которые та занимала при Генрихе. Дочь видела себя продолжательницей политической линии отца и проакцентировала это в первом же своем обращении к Парламенту, зачитанном лордом Бэконом. Обращение призвано было сформулировать основные принципы нового царствования, и среди них декларировалось обязательство никогда более не терять ни пяди английской земли, но – сражаться за расширение рынков для Англии.[268]
«Портрет с Пеликаном» Хилльярда (ил. 25) представляет нам королеву одетой в платье из красного бархата, богато отделанное жемчугом и драгоценными камнями. Своеобразным центром портрета является подвеска с Пеликаном, висящая на груди у Елизаветы. Уже сочетание этого украшения и платья достаточно символично: дело в том, что красный традиционно считался солярным, пеликан же, как мы уже говорили, считался «лунным атрибутом». С другой стороны, как мы помним, Пеликан выступал символом Христа, а кровь Пеликана ассоциировалась как с Крестной жертвой, так и со Святыми Дарами. Тем самым сочетание красного наряда[269] и подвески призвано было подчеркнуть духовную роль королевы как главы реформированной англиканской церкви. Акцентировано это и парой спелых ягод черешни, заложенных за правым ухом Елизаветы – в той же «символической азбуке» вишня или красная черешня символизировали кровь или Святые Дары[270] (на этом, в частности, строилось символическое «прочтение» многих натюрмортов[271]).