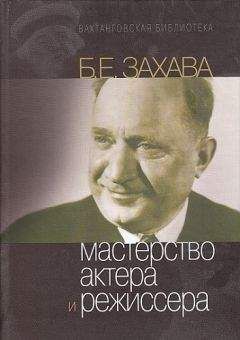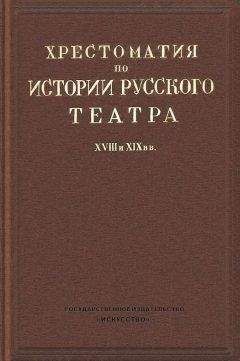Андрей Якубовский - Профессия: театральный критик
В "Человеке из Ламанчи" Гончаров подчеркивает грубую материальность обстановки, натуралистическую конкретность и телесную осязаемость массовых сцен, но организует спектакль по законам ро-мантико-поэтической живописной мизансценировки, придает сценическому движению четкость, законченность, ясность. Игра массовки тщательно продумана, строго дисциплинирована, превосходно выполнена. Критик справедливо заметил, что режиссер "идеологизирует эскизно намеченные драматические ситуации": он обостряет тематические лейтмотивы образов, резко очерчивает их контуры, если угодно, мону-ментализирует, придает им особую пластическую музыкальную и драматическую устойчивость. Гончаров утверждает непреходящую ценность поэзии с серьезной обстоятельностью и рациональной расчетливостью, которых поэзия в такой степени не требует и не предполагает, которые пристали, скорее, прозе. И блестящей постановке Гончарова не хватает как раз тех качеств, какие, скорее всего, были способны превратить "Человека из Ламанчи" в "мистериальный" спектакль: свободы игры и живости импровизации, вольности в смешении и расположении контрастных эмоциональных красок (исключая случаи, о которых речь впереди), непосредственности и полноты коллективной жизни участников постановки.
В спектакле "Трамвай "Желание" мы становимся свидетелями драматического поединка, центр тяжести которого вынесен наружу. Глубоко несчастная, "избитая, измордованная" прошлой жизнью Бланш, чудом сохранившая в сердце преданность "мечте" и веру в невозможное, в "доброту", — и словно бы увиденный ее ненавидящими глазами Стенли, "животное", живущее скотской, унижающей человека жизнью, жестокий "зверь", видящий смысл существования в плотских утехах. Светлана Немоляева и Армен Джигарханян дают острое ощущение физической, психологической, нравственной несовместимости страдающей, наделенной тонкой духовностью героини и агрессивного, торжествующего, звереподобного героя. Этим изначально заданным мотивом, по существу, и исчерпывается антитеза, положенная Гончаровым в основу трактовки пьесы Уильямса. Режиссер становится на защиту "мечты" и того, кто является ее носителем; он спешит на помощь тому, кто нуждается в доброте, и в последние секунды спектакля Митч страшным, карающим ударом навзничь повергает Стенли, вырывает Бланш из рук санитаров и, высоко подняв бесчувственное тело, уносит прочь...
Оставим наивные рассуждения о том, что режиссер вольно обошелся с пьесой. Зададимся другим вопросом: не является ли Бланш, которая шага не может ступить без ограждающей и поддерживающей ее нравственное "я" спасительной лжи, которая пользуется ею одновременно как допингом и как наркотиком, все понимает, но боится понять до конца и бьется в паутине, сотканной из невольных заблуждений и добровольно вывернутой наизнанку правды, — не является ли Бланш при всем сострадании, с каким к ней относятся и автор, и мы, зрители, порождением того же мира, что и Стенли? Страшного мира, надо сказать, в котором весьма проблематично оптимистическое решение, предлагаемое режиссером в финале. Если это так, а это без всякого сомнения так (и "по Уильямсу", и по правде), то следует признать, что Гончаров несколько односторонне истолковал образы. Необходимо учесть: Уильяме вслед за Достоевским, Чеховым решает свои произведения полифонически, строит их не только на противостоянии отдельных голосов, но на их взаимодействии и взаимовлиянии, когда каждый голос откликается другому, отражает его,— 'Трамвай "Желание" в этом смысле не исключение. Но, как уже было отмечено, режиссерскому мышлению Гончарова не свойственны отступления от жесткой определенности общего замысла, склонность жертвовать ясностью оценки явления в пользу осторожного исследования противоречивого его содержания.
Представляется спорным мнение, согласно которому режиссерский язык Гончарова, — это прежде всего язык сценических метафор. Мета-форизм предполагает предельно свободное и непредвзятое обращение с исходным материалом, в ходе которого в рамках единого сценического образа органически и словно бы само собой совмещается несовместимое. Пастернак называл метафору "скорописью духа"; об этих словах поэта стоит напомнить еще и потому, что метафоризм мышления — прерогатива поэзии.
В спектаклях Гончарова метафора уступает свои права яркой, впечатляющей и изысканной образности. Гончаров с его нетерпимостью к неопределенности и недосказанности, с его властным и всегда осознанным отношением к материалу (именно в этом отношении так полно и проявляется высокий и трезвый профессионализм его режиссуры) стремится к обострению образности и к четкой фиксации образа, который есть вынесенный на поверхность ключ к теме, эффектно обращенный к зрителю результат режиссерской организации материала. Вспомним часы, которые в "Думе о Британке" уполномоченный ревкома Егор Иванович передает председателю Британской республики Лавро Мамаю, а этот последний — юной Гальке Иванцевой: часы становятся материализацией образа революционной эстафеты, необратимого хода времени. Вспомним необычных размеров деревянную ванюшинскую кровать, этот символ неколебимых семейных устоев, которую приказчики весело и шумно несут вон из дома, перекроенного молодым Ванюшиным в каком-то галантерейно-парфюмерном стиле (иначе и не определить характер перемен, произведенных Константином в отцовском гнезде), — несут вон, на второй этаж, куда в свой черед за ненужностью отсылается некогда всесильный глава семьи и фирмы. Вспомним, наконец, волнующий финал "Человека из Ламанчи": узники, так недавно бывшие сбродом, человеческим отребьем, словно бы подчиняясь тревожащей душу мелодии и призывным интонациям песни Дон Кихота, увлекаясь магией его мечты, осветившей их бедную безрадостную жизнь и поманившей в заветную страну добра, поэзии, свободы, один за другим, все вместе взбираются ввысь по тюремной решетке, по всему зеркалу сцены.
Подобные примеры можно продолжить: сходные решения возникают в спектаклях Гончарова на всех уровнях — предметном, пластическом, музыкальном, мизансценическом, живописно-декорационном. Единица, если так можно выразиться, его режиссерской фантазии есть образ. В этом смысле Гончаров выступает наследником Н. П. Охлопкова и по праву продолжает его дело на подмостках Театра Маяковского.
Охлопкова отличала органическая неожиданность взгляда, стихийно-поэтическое мироощущение, неизменно обновлявшие в его искусстве устоявшиеся понятия и привычные явления. Могучий темперамент Охлопкова был следствием и выражением восторженного, взволнованного отношения к жизни, вне которого невозможно представить себе его личность, его творчество.
Гончаров тоже неожидан как художник. Однако он сам и сознательно избирает непривычный угол зрения на произведение и жизнь, в нем отразившуюся; он поражает неожиданностью художественного приема, воспринимает поэзию как одну из ценнейших театральных красок, которой отлично умеет пользоваться. Один из рецензентов давних спектаклей режиссера точно подметил, что Гончарову скорее присуща романтика как признак стиля, как интонация, нежели романтизм как эмоциональное отношение к действительности, определяющее начало искусства. И темперамент Гончарова— это прежде всего выражение творческой энергии режиссера, активности его замыслов и его художественных решений.
Эмоциональный тонус постановок Гончарова почти всегда необычайно высок. В них пауза читается как короткая передышка между двумя эмоциональными взрывами, вспышками театральных красок; временное ослабление напряжения воспринимается цезурой, разбивающей фразу на две половины, произнесенные в полный голос.
Творческая агрессивность, профессиональная жадность Гончарова влечет его опробовать все средства сценической выразительности, использовать все зеркало сцены, все пространство подмостков. Не говоря уже о пьесах Найденова и Уильямса, где вертикальное членение декорации обусловлено замыслами драматургов, "второй этаж" в виде террас, помостов, игровых площадок, связанных с планшетом сцены разнообразными лестничными сходами, возникает и в пьесе Боровика, и в "Марии", и в "Человеке из Ламанчи". Работая с разными художниками, режиссер неизменно и вне зависимости от ремарок, планировки действия требует от них ярусной конструкции. В "Думе о Британке" Гончаров с помощью художника М. Френкеля узлом "завязывает" изогнутые помосты, петлей возносящиеся от авансцены вдаль и ввысь, под самые колосники, давая впечатляющий образ дороги, крутого подъема, который одолевает охваченная кольцом врагов Британская республика. Даже в постановке комедии Островского, действие которой максимально приближено режиссером к зрителю, где-то на третьем плане Гончаров обыгрывает лестницу, по которой будет мчаться дебелая Липочка, истошно визжа и высоко подбирая юбки...