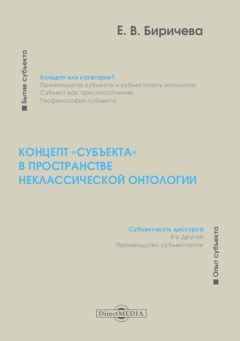Елена Петровская - Безымянные сообщества
Для Тынянова эквивалент служит условием динамизации формы. Напомним: это «пропуск», то есть тоже в некотором роде отсутствие самой образности. И, тем не менее, поскольку в этом пропуске свернута энергия формы в ее становлении (как иначе можно понимать «чистое движение»?), то пропуск оказывается условием появления и реверберации значений. Не случайно Тынянов настаивает на том, что роль неизвестного текста «неизмеримо сильнее» роли текста определенного, что недостающие элементы находятся в максимальном напряжении[231], наконец, что только благодаря всем этим «знакам» (ритма, метра и т. д.) форма и может избежать автоматизации. Верлибр и является динамической формой par excellence. Но это значит размыкание поэзии навстречу тому, что не входит в узкое ее определение. Это значит взаимодействие поэзии с миром, когда не столько поэзия «черпает» из мира образы, сколько сами гетерогенные образы этого мира входят в нее. (Здесь я могу сослаться на исследование Олегом Аронсоном поэзии Шамшада Абдуллаева и на вводимое им понятие образа-эквивалента применительно к стихам ферганского поэта См.: Аронсон О. Поэтический императив. — Синий диван, 2004, № 5..)
При всей разнице подходов — а мы не пытаемся ее затушевать, утверждая, что эквивалент и есть интервал, приравненный еще и к образу, — хотелось бы удержать (и по возможности развить) известную общность установки. Дело не столько в том, что в последнее время констатируют «бесплотность» образа. (Это определение носит, пожалуй, метафорический характер и имеет отношение ко всему тому, что принято обозначать как виртуальное.) Речь, на наш взгляд, может скорее идти о другом. Сам образ требует пересмотра исходя из изменившихся характеристик чувственности. Развоплощенный, безобъектный, паразитарный образ — не привилегия одних лишь сновидных состояний (или одной лишь мысли, которая пытается помыслить образ). Этот образ указывает на становление человека и мира сегодня. Образы, ставшие составной частью современной чувственности — что это такое? Это, в частности, опыт, чьим элементом становится само фантазирование (в том числе по поводу истории). Фантазирование, у которого нет активных агентов. Напротив, как раз потоки образов формируют временные коллективы, и именно потоки образов раскрывают аффективные связи, возникающие внутри таковых. Вспомним предварительное удовольствие — оно ни к чему не ведет, ни во что не переходит: непотребляемое, оно разрешается только в еще большем удовольствии. Удовольствие как таковое. Распространяясь, оно оставляет след — в виде стольких образных осколков. Образ принципиально нецелостен: он не замыкается ни творчеством, ни отдельно созданным произведением. Если угодно, это движение самой жизни, которая одновременно создает и отменяет форму, оставляет образ (отпечаток) и его стирает.
У фантазий, как и у образа, есть пространство свободы, будь то свобода, выступающая условием кантовского схематизма[232], свобода от тотального подчинения идеологическому аппарату (тезис об идеологической закабаленности фантазий упорно развивает Жижек) или, наконец, подвижность и открытость самих потоков образов и их взаимодействий. Повторим: образ есть короткое мгновение «голой» жизни — здесь нет субъекта, языка и связанных с тем и другим представлений. Зато уже есть отношение, возможность отношения, уже есть некая связь. Логика этой связи совпадает с движением внеинституциональных образований, или единиц, для которых так трудно подобрать подходящее название. Но похоже, что сегодня образ указывает именно на это измерение и его «по ту сторону» — это вместе с тем и свободная жизнь таких спонтанных коллективов. Коллективов грезящих, если угодно. Фантазирующих саму социальную связь. И прорывающихся в видимость истории в двойной ипостаси претерпевающего — грезящего — и собственно агента действия.
В сторону образа: об одном возможном применении символологии[*]
Понимание, как всегда, движется своими путями. Сочинения, написанные ранее и по специальным поводам, попадая в изменившийся контекст, прочитываются в нем по-другому. Но именно благодаря тому, что они «узнаются» либо в ином проблемном поле, либо на языке самоновейших дисциплин, эти сочинения продолжают быть современными. (Или впервые ими становятся.) Думается, что такова участь произведений Мераба Константиновича Мамардашвили. Именно произведений, поскольку время делает свое дело, посягая даже на образ, оставшийся в памяти. Мамардашвили сегодня — это автор книг и статей, а вернее — идей, способных свободно пересекать дисциплинарные и временные границы. Но в каком-то смысле так было и прежде: сам Мераб Константинович приветствовал творческие симбиозы и тонко реагировал на импульсы, исходившие из разнообразных областей культуры. Более того, его обращение к разным языкам для выражения волновавших его проблем, в первую очередь проблемы сознания, делает его труд с самого начала более разомкнутым. Руководствуясь сказанным, нам хотелось бы вернуться к этой базовой теме в творчестве Мамардашвили и предложить подступиться к ней с неожиданной, быть может, стороны: мы попытаемся связать, пускай и в предварительном порядке, понятие символа, возникающее в рамках «символологии» сознания, с образом, как этот последний может толковаться в связи с зарождающейся теорией образа, параметры которой и предстоит определить.
Символ — косвенная речь сознания. Пожалуй, можно начать именно с такой формулировки, имея в виду ту обще-, а точнее — мета-теоретическую рамку, в которую оказывается вписан символ. В книге «Символ и сознание», написанной Мамардашвили в соавторстве с А. М. Пятигорским, читаем: «Если сознание всегда на один порядок выше элементов содержания, составляющего опыт сознания, то у нас нет другого способа говорить об этом более высоком порядке, как говорить о нем косвенно, символически»[234]. Сознание, как пишет о нем Мераб Константинович в другом месте, — предельное понятие, или предел, самой философии. В то же время, хотя о сознании можно сказать, что оно «есть», его нельзя объективировать. Поскольку невозможна никакая теория сознания, нужно учиться говорить о нем, используя «существующие правила», но при этом говорить косвенно и осторожно[235]. Вопрос об онтологическом статусе сознания оставим в дальнейшем открытым. Констатация того, что сознание «есть», будет дополнена характеристикой его структуры как (квази)пространственной, а также представлением о том, что сознание случается: в какие-то моменты мы «попадаем» в сознание; сознание «уходит» — покидая свои же структуры либо отдаляясь от нас в качестве полноты понимания, обретаемой и утрачиваемой в смерти; наконец, сама мысль случайна, и никаких гарантий, что она повторится, не существует[236]. Примем в расчет и еще одно обстоятельство. Мамардашвили очень внимателен к фрейдовскому понятию бессознательного. Этим понятием провозглашается уровневое строение психики, а именно наличие внутри самого сознания явлений, ему неподконтрольных и в этом смысле «бессубъектных»[237]. С одной стороны, этот ряд явлений обладает «бытийными характеристиками» в отношении сознания как индивидуально-психической реальности, что в конечном счете и позволяет противопоставить безличное и анонимное Сознание индивидуальной психической жизни. С другой стороны, Мамардашвили протестует против онтологизации бессознательного, то есть наделения «глубокого слоя психики» самостоятельным существованием. «Мета психология» Фрейда, как и «метатеория» Мамардашвили — Пятигорского, предпочитает иметь дело с таким описанием, которое отдает приоритет «топологически содержательной действительности»[238]. При всей ее эфемерности эта последняя обнаруживает себя в действии материальных символов, или вещей. (В случае психоанализа это симптомы и фантазмы, в случае примыкающей к нему теоретической психологии — установка как проявление адекватного поведения вне и помимо любых осознанных усилий по адаптации к среде.)
Очевидно, что само понятие сознания следует воспринимать как неклассическое. («Сферу сознания мы вводим как понятие, которое замещает нам „картезианского человека“»[239].) Дело не только в том, что сфера сознания призвана соединить в себе часть свойств наблюдателя и наблюдаемого, прежде разграниченных между собой, и предстать как единое поле, в котором совершаются «мировые события» независимо от их исторической, культурной или личностной локализации. (На языке психоанализа это означает совпадение «что» и «как», то есть некоего (травматического) события и его последующей, приравненной к реальности интерпретации.) Дело еще и в том, что сознание, чьи состояния по преимуществу несодержательны и в этом отношении пусты, требует радикального подвешивания языка в процессе своего исследования. («Что касается самого сознания как гипостазируемого объекта, то мы оставляем вопрос о его отношении к языку полностью открытым»[240].) По мысли Пятигорского и Мамардашвили, язык в целом и лингвистический анализ в частности не позволяют ухватить сознание. В свете всего сказанного выше это можно понять так: пустое, анонимное сознание есть в своей основе образование несемиотического типа, в котором отсутствуют не только вторичные лингвистические оппозиции вроде оппозиции означающего и означаемого, но и само исходное условие любого бинаризма. Действительно, в сфере сознания мы имеем дело только с «интуитивным опытом семиотизации» (курсив мой. — Е.П.), в котором обозначаемое, обозначающее и обозначатель друг от друга больше не отделены[241]. Говоря проще, уже на эмпирическом уровне мы сталкиваемся с такими свойствами отдельных вещей, которые ускользают от рационального, детерминистского истолкования. (Вспомним о тех же симптомах в психоанализе.) Ими и вызвано движение к метатеории сознания. И именно новое понимание сознания должно удержать их в виде следов, то есть материальных отпечатков, которые указывают, по сути дела, на отсутствие.