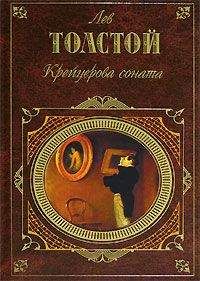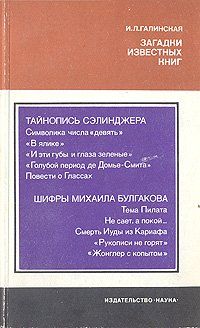Ирина Галинская - Загадки известных книг
Но вряд ли нужно было Булгакову предпринимать подобные литературоведческие исследования, если в его распоряжении имелось такое исчерпывающе ясное предисловие Соловьева к «Золотому горшку», изложенное к тому же менее чем на двух страницах современного машинописного текста.
О том же, что Булгаков знал не только поэзию Соловьева, но и его критику и публицистику, свидетельствуют навеянные ими в творчестве Булгакова стилистические параллели и парафразы. Кто не знает, например, какую трудность представляет для писателя начало романа. Не многим из мастеров художественной литературы дались зачины, которые бы врезались в память читателей навсегда. Булгаков — в числе таких мастеров. Начало романа «Белая гвардия» сразу же запоминается читателю — своею музыкой, ритмом, смысловой значимостью: «Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй».[234] А вот как начинается очерк В. С. Соловьева «Магомет»: «Пятьсот семидесятый год по рождестве Христовом был одинаково зловещим для обоих владык, в непримиримой вражде между собою разделивших тогдашний исторический мир».[235]
Впрочем, парафразы и параллели Соловьев—Булгаков — это отдельная тема, отчего мы и возвратимся к предисловию Соловьева к его переводу гофмановского «Золотого горшка». Ведь изучив метод создания повестей-сказок Гофмана, Соловьев не только вскрыл внутренний механизм взаимопроникновения в них реального и фантастического миров, но и в предельно сконденсированной форме показал, «как это делается», т. е. объяснил, «двойной игрою» каких изобразительно-выразительных средств могут достигать подобного же художественного эффекта другие талантливые мастера. И тем самым как бы подготовил эстетическую программу романа-сказки Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Известно, что различные формы влияния Гофмана на русскую литературу, как и различные формы переосмысления его творчества, являются традиционными. Начиная с 20-х годов XIX в. гофмановское влияние преломлялось так или иначе в творчестве А. Погорельского, Н. Полевого, В. Одоевского. А через такие произведения, как «Гробовщик» и «Пиковая дама» Пушкина, «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Петербургские повести», «Портрет» Гоголя, «Двойник» Достоевского, оказало и оказывает воздействие на многих русских и советских писателей.
Однако соловьевским эстетическим анализом повестей-сказок Гофмана воспользовался пока что, как видим, в полной мере один Булгаков.
Неудачная шутка темно-фиолетового рыцаря
О том, что в некоторых эпизодах и сюжетных линиях «Мастера и Маргариты» слышны отголоски апокрифических мотивов, писали еще в 1967 г., т. е. сразу по выходе журнального варианта романа ипервых его переводов на английский язык. Отмечалось, в частности, что в трактовке, свойственной апокрифам, а не по Евангелию даны Булгаковым страдания Иешуа.[236] Как отражение неортодоксальных христианских воззрений многократно комментировалось также и то место в романе, где к Воланду является Левий Матвей с просьбой от Иешуа, чтобы дух зла взял с собой Мастера и его подругу и наградил их покоем.
И в самом деле, сцена эта как бы иллюстрирует догмат тех еретиков, которые считали, что земля не подвластна богу и целиком находится в распоряжении дьявола. Ведь многие еретики (манихеи, богомилы, патарены, вальденсы, тиссораны, альбигойцы) верили в существование одновременно двух царств: света и тьмы, добра и зла. В царстве света, утверждали они, господствует бог, в царстве тьмы повелевает сатана. Подкреплялось же это следующим рассуждением. Если бог — творец всего мира, то он и виновник присущего этому миру зла, но в таком случае он не всеблагой; а если бог бессилен устранить зло, то он не всемогущ, ибо тогда злом управляет некая иная сила. Вывод же был таков: бог света повелевает горними сферами, а князь тьмы — землей.
В соответствии с такими взглядами выстроена в романе «Мастер и Маргарита» Булгаковым и сцена, в которой волшебные черные кони несут всадников во главе с Воландом прочь от земли.
«Ночь обгоняла кавалькаду, сеялась на нее сверху и выбрасывала то там, то тут в загрустившем небе белые пятнышки звезд.
Ночь густела, летела рядом, хватала скачущих за плащи и, содрав их с плеч, разоблачала обманы. И когда Маргарита, обдуваемая прохладным ветром, открывала глаза, она видела, как меняется облик всех летящих к своей цели. Когда же навстречу им из-за края леса начала выходить багровая и полная луна, все обманы исчезли, свалилась в болото, утонула в туманах колдовская нестойкая одежда.
Вряд ли теперь узнали бы Коровьева-Фагота, самозванного переводчика при таинственном и не нуждающемся ни в каких переводах консультанте, в том, кто теперь летел непосредственно рядом с Воландом по правую руку подруги Мастера. На месте того, кто в драной цирковой одежде покинул Воробьевы горы под именем Коровьева-Фагота, теперь скакал, тихо звеня золотою цепью повода, темно-фиолетовый рыцарь с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом. Он уперся подбородком в грудь, он не глядел на луну, он не интересовался землею под собою, он думал о чем-то своем, летя рядом с Воландом.
— Почему он так изменился? — спросила тихо Маргарита под свист ветра у Воланда.
— Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил, — ответил Воланд, поворачивая к Маргарите свое лицо, с тихо горящим глазом, — его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и тьме, был не совсем хорош. И рыцарю пришлось после этого прошутить немного больше и дольше, нежели он предполагал. Но сегодня такая ночь, когда сводятся счеты. Рыцарь свой счет оплатил и закрыл!»[237]
То, что свет и тьма — слагаемые столь дорого обошедшейся рыцарю шутки — являются компонентами манихейской космогонии, было отмечено многими. Но в чем же все-таки эта шутка заключалась? И как звучала, раз уж была облечена в форму каламбура? Есть в описании рыцаря и другие загадки. Почему он в одном случае (для окружения Воланда) — Фагот, а в другом (для общения с людьми) — Коровьев, а в истинном рыцарском своем «вечном облике» имени полностью лишен?
Прояснить все это никто пока не пытался — внимание исследователей романа образ Коровьева-Фагота всерьез еще к себе не привлекал. Разве что Э. Стенбок-Фермор (США) в 1969 г. высказала предположение, что в нем, видимо, своеобразно воплощен — как спутник дьявола — доктор Фауст, да в 1973 г. Э. К. Райт (Канада) писал, что Коровьев-Фагот — персонаж незначительный, проходной, «просто переводчик».[238]
Правда, М. Йованович (Югославия) в 1975 г. утверждал, что для понимания романа образ Коровьева-Фагота очень важен, ибо относится «к наивысшему уровню философствования в кругу Воланда», но этим замечанием и ограничился.[239] Может быть, исследователя остановил ряд связанных с этим персонажем «темных мест»? Тем более что, по мнению Йовановича, осуществить реконструкцию неудачной шутки безымянного рыцаря (насчет света и тьмы) вряд ли вообще возможно.
Кое-что, однако, нам удалось расшифровать. Например, семантические компоненты имени Фагот. Булгаков, на наш взгляд, соединил в нем два разноязычных слова: русское «фагот» и французское «fagot». Тут надо иметь в виду, что комплекс словарных значений современной французской лексемы «fagot» («связка веток») утратил отношение к музыкальному инструменту — буквально «связка дудок» («фагот» — по-французски «basson»), — и в числе этих значений есть такие фразеологизмы, как «etre habille comme une fagot» («быть, как связка дров», т. е. безвкусно одеваться) и «sentir le fagot» («отдавать ересью», т. е. отдавать костром, связками веток для костра). Не прошел, как нам кажется, Булгаков и мимо родственного лексеме «fagot» однокоренного французского слова «fagotin» (шут).
Таким образом, заключенную в имени Фагот характеристику интересующего нас персонажа определяют три момента. Он, во-первых, шут (имеющий отношение к музыке), во-вторых, безвкусно одет, и в-третьих, еретически настроен.
Шутовская манера поведения и причастность Коровьева-Фагота к музыке (вокальной) обозначены уже в начале романа, когда при встрече с Берлиозом он просит «на четверть литра… поправиться… бывшему регенту!».[240] А в середине романа Коровьева как «видного специалиста по организации хоровых кружков» рекомендует своим подчиненным заведующий городским зрелищным филиалом, после чего «специалист-хормейстер» проорал:
«— До-ми-соль-до! — вытащил наиболее застенчивых из-за шкафов, где они пытались спастись от пения, Косарчуку сказал, что у того абсолютный слух, заныл, заскулил, просил уважить старого регента-певуна, стукал камертоном по пальцам, умоляя грянуть „Славное море“.
Грянули. И славно грянули. Клетчатый, действительно, понимал свое дело. Допели первый куплет. Тут регент извинился, сказал: „Я на минутку!“ — и… исчез».[241]