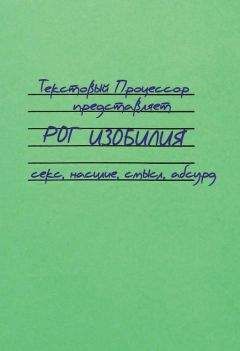Ольга Буренина - Абсурд и вокруг: сборник статей
К этому моменту обэриуты уже осуждены, вскоре пойдет разгром Заболоцкого за Торжество земледелия, уже начинается борьба против влияния немецкого экспрессионизма в советском искусстве (обнаруженном в работе обществ ОСТ и Октябрь). Разоблачается реакционность экспрессионистской (гротескной) деформации, но еще мыслима «деформация революционная» — «концентрация предмета в одной какой-либо характерной стороне при выключении всех остальных», для показа его положительной или отрицательной сущности[228].
Скоро идеологически ненадежный гротеск сдаст позиции вместе с «революционной деформацией» и «грубой комикой»: о ней пролетариат и руководящие смехом товарищи забудут думать, хотя нельзя сомневаться, что советская эстрада составит некоторый эрзац того народно-культурного балагана, о котором мечтал модернизм, правда, в очень серьезно-политизированной версии (о чем, конечно, позаботились сами авангардисты [229]).
Устанавливается троякая, строго иерархизованная оценка гротеска, замаскированного под «гротескность стиля» в рамках общей категории сатиры и юмора. «Обличительный» гротеск Рабле, Свифта, Щедрина ретроспективно принимается (не без оговорок) как часть классического наследия[230]. Благосклонно оправдывается у Маяковского «острая, гротескная сатира в изображении (…) обломков разрушенного строя» [231]. Не допускаются искажения по отношению к советской действительности. «Микроскоп тоже преувеличивает, но он не искажает. Искажает кривое зеркало. Так что же, следует кривое зеркало признать методом нашей сатиры и юмора? Думаю, что сказать такое не отважится сейчас ни один человек» [232]. Такие размышления ведутся после Всесоюзного совещания, посвященного вопросам советской сатиры и юмора (1949), все участники которого высказались против «юморобоязни».
Странным образом, однако, память о гротеске не исчезает совсем даже в ждановский, наиболее жесткий период; сфера действия у него суживается (карикатурно-памфлетная обрисовка представителей западного мира, капиталистов, фашистов), но его негласное присутствие ощущается во всех спорах о реализме. В разгар ждановских кампаний появляется прочно (и не совсем заслуженно) забытая сегодня книга Франсуа Рабле (1948) Елены Евниной. Многочисленные цитаты из западных критиков сопровождают в ней подробный анализ категории комического — в ту пору редкостью стали и упоминание западных работ, и исследование комического. Гротеск описывается как «самое смешное» в комическом и как «форма наибольшей доходчивости и эффективности по впечатляющей силе, по широте своего воздействия на народные массы». Проводится мысль о значении для Рабле, а косвенно — и для современности, наряду с сатирическим гротеска утверждающего (бахтинский тезис в зачаточном виде)[233]. Несмотря на свою несвоевременность, книга Евниной получила некоторое признание и имела влияние, о чем свидетельствует хотя бы факт ее перевода на язык братской народной демократии[234].
Вскоре намечается поворот генеральной линии, предваренный знаменитым призывом на XIX съезде партии: «Нам нужны советские Гоголи и Щедрины» [235]. Непосредственно после съезда главный теоретик советского искусства Герман Недошивин возвращает гротеск в систему сталинского соцреализма. Упоминая классику от Леонардо до Домье, он строит оппозицию между романтико-буржуазным фантастическим «гротеском страха» и реалистическим «гротеском осуждения». Ново здесь то, что реалистический гротеск, который «всегда звучит гневной силой обличения — „этого не должно быть!“ — может и должен быть направлен и против недостатков самой советской действительности» [236].
Позже, уже после оттепели, задается вопрос, нельзя ли усмотреть в формах гротеска и фантастики своеобразную реализацию эстетики «революционного романтизма», и будут делаться отдельные попытки реабилитировать экспрессионизм и гротеск на фоне романтической культуры послереволюционных лет как «стилевое течение социалистичекого реализма» [237].
Нужно ли говорить, что право на «реалистический гротеск» будет использоваться в сталинском и даже послесталинском соцреализме с превеликой осторожностью? Его открытое появление возможно лишь в самиздате и предвещает конец соцреализма.
IV
Все сказанное не претендует на новизну — это черновик для будущего жизнеописания русского гротеска, составленный с тем, чтобы понятие это могло быть в любой момент проверено на его состав, валентность и сопротивляемость. Это, конечно, не эссенциалистская позиция. Я далек от мысли о некой навечно определенной сущности явления гротеска. И от претензий на новое его определение взамен уже существующих. Явление должно предстать перед наблюдателем во всей своей исторической комплексности. Именно поэтому плодотворным кажется критический подход, разделяющий, а не смешивающий, но и не упускающий из виду целого. Поэтому в историю гротеска естественным образом уложатся как соци-ально-институциональные аспекты его развития, так и обзор разных областей искусства и их взаимосвязей: гротеск в перспективе как «интермедиальной», так и «интрамедиальной» (обменов внутри одной области); гротеск в перспективе междужанровой. Постановка вопроса об этом внешнем контексте (о межкультурных взаимовлияниях? об интертекстуальности?) — такова одна из задач этой статьи.
Несмотря на обилие работ, вопрос едва затронут. Мало учитывалось, например, что русский гротеск последнего века постоянно ощущал польское и чешское присутствие. Станислав Выспяньский в эпоху символизма, Карел Чапек и Ярослав Гашек в 1920-е годы, после Оттепели пугающий юмор Славомира Мрожека, кибернетический бурлеск Станислава Лема, кино Милоша Формана и Ивана Пассера, еще позже — открытие Ежи Гомбровича, Милана Кун деры, Богумила Храбаля: на протяжении всего XX века, пускаясь на поиски нового, Россия прислушивается к западному, но и — к «славянскому гротеску» (добавим сюда и югославскую линию, которую в последнее время с таким блеском воплощает Эмир Кустурица). Приходится констатировать, что это богатейшее наследие совершенно выпало из поля зрения западных библиографических и обобщающих работ, начиная с классического труда Вольфганга Кайзера и с обзора эволюции понятия пера Франсес Бараш, а кончая недавним подведением итогов французским специалистом Домиником Иэлем[238]. Но и русисты его не учитывают, предпочитая обращаться непосредственно к западным моделям.
Между тем, в каждой из этих традиций создался свой взгляд на гротеск. Пишущему эти строки известны некоторые польские работы. В них много оригинального и важного для понимания гротеска вообще; но кроме того, они проливают с неожиданной стороны свет и на русскую традицию. Вряд ли стоит сомневаться, что русское «гротесковедение» выиграет от знакомства с анализом эстетики гротеска «Молодой Польши», тесно связанной с русским модерном, или с польским исследованием гротескных аспектов творчества Обри Бердсли, влияние которого так сильно ощущалось в России[239].
Тогда как знакомство, например, с гротескно-сюрреалистическим творчеством Станислава Виткевича дает хорошую шкалу для примерки и русской антиутопии, и русского экспрессионизма, и абсурдизма. Разумеется, обратное тоже верно: русская традиция гротеска составляет хороший контрастный фон для польской.
Учет контекста очень (непомерно?) расширяет горизонт изучения гротеска. Здесь об этом речь ведется из принципа. Мне кажется важным выйти за пределы известного материала и, прежде всего, из ставшей стереотипной проблематики. Представленный здесь весьма грубый очерк вопроса делает, как мне кажется, бесспорным тот факт, что весь XX век русскую культуру неудержимо влекло к гротеску, что это была одна из главных линий художественных исканий и одна из главных тем для дискуссий.
Из того следует, между прочим, что русский вклад в теорию гротеска отнюдь не сводится к учению Михаила Бахтина. На Западе противостояние Бахтина и Кайзера (по параметрам: борьба против смерти — страх перед жизнью, сознательное освобождение через смех — чувство несвободы человека, социально-культурный оптимизм — экзистенциальный пессимизм, созидание — разрушение, и т. д.) превратилось в концептуальную основу любого анализа гротеска. Образовался культ Бахтина, главным образом, в марксистской среде, которая и его считает марксистом: именно он якобы открыл, что смех являет собой культуру, что это культура народная, культура сопротивления угнетенных и оружие против угнетателей[240]. Такое бесповоротное разделение и противопоставление двух культур, «официальной» и «народной», — наиболее уязвимая[241] сторона бахтинского толкования гротеска. Но как раз этот подход типичен для советских концепций. Книга Бахтина о Рабле появляется в сложном контексте и отвечает на сложные запросы. Тут стоит напомнить о написанных почти одновременно с нею книге Леонида Пинского (оставшейся неоцененной на Западе, наверное, из-за успеха Бахтина), где на фоне Возрождения и гуманизма блестяще анализируется смех Рабле и комическое вообще — универсальный показатель и восстановитель здоровья общества и мира[242], и работах Юрия Манна, исследовавшего поэтику Гоголя и ставшего видным специалистом по поэтике гротеска.