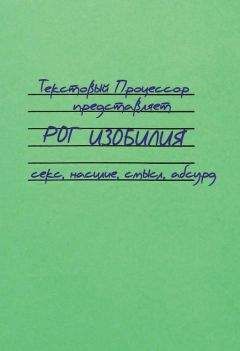Ольга Буренина - Абсурд и вокруг: сборник статей
Начало века — момент оживления гротеска; немногим позже захватывает прочное место в новых художественных системах абсурд или нечто очень на него похожее: кажущаяся нелепость футуристской зауми, в живописи — пред супрематистский «алогизм». На обороте картины 1913 года Малевич пишет: «Алогическое сопоставление двух форм „скрипка и корова“ как момент борьбы с логизмом, естественностью, мещанским смыслом и предрассудком» [204]. В этой декларации, похожей по духу на будущие лозунги сюрреалистов (и на любимые сюрреалистами слова Лотреамона о «случайной встрече на хирургическом столе швейной машины с зонтиком» [205]), заложена одна из программ постсимволистского авангарда, углубляющая ту борьбу с «мещанским смыслом», которую символизм вел приемами гротеска.
Интерес к абсурду немедленно отражает теория. В стиле Гоголя Эйхенбаум находит «логический абсурд» [206]. Напомнив о том, что уже современники Гоголя видели в его описаниях «мир бессмыслицы, воплощенный в полную городскую массу» (Шевырев), Александр Слонимский говорит о «комическом алогизме», составляющем «наиболее яркую форму» гоголевского комического гротеска, и различает в нем комизм «абсурдных умозаключений», «бессвязности», «нескладицы» [207]. Но формалисты и параформалисты склонны подчинять абсурд гротеску, что в изложении Оге Ханзен-Лёве ведет к тому, что одна из категорий поглощает другую: «В гротескном порядке алогичность, потеря семантических и конструктивных связей не являются единичным или исключительным случаем, они тотальны». Как кажется, такая расширительная трактовка идет от немецкой традиции. Гротеск разрастается до размеров «гротескной абсурдности» [208] как мира, так и его восприятия.
Прямым наследником этой тенденции будет Юрий Манн, который считает гротеск широким «принципом типизации», основанным на алогизме[209].
Нарушая хронологию, констатирую: в последнее время видна тенденция обратная — всеохватывающим становится понятие абсурда. Оно окружается ореолом философского престижа (французские философы и их толкование Хайдеггера играют тут не последнюю роль), его применение в литературоведении ширится и завоевывает рубежи, занимавшиеся другими категориями. Признание обэриутов классиками стимулирует процесс: похоже, что критикам более лестно считать их предшественниками новейшей литературы абсурда, чем наследниками древней традиции гротеска[210].
Это относится и к другим писателям. Есть работы, скажем, о прозе Леонида Добычина, где любая стилистическая вольность вроде перестановки темы и ремы толкуется как «отмена языковых и логических связей»[211]. Подобные явления (у Хлебникова, Зощенко, тех же обэриутов) недавно объяснялись так же безапелляционно в перспективе гротеска[212], вызывая такие же принципиальные сомнения.
Продолжается путаница. Типичный ее пример мы найдем в последнем советском энциклопедическом издании по эстетике, достаточно профессиональном по разным другим вопросам. В статье об «Абсурда искусстве» говорится: «один из осн. приемов в А. и. — гротеск», а в статье о гротеске сказано, что там, где последовательно проведены принципы драматургии абсурда, он не возможен[213]. Характерно тут смешение не категорий, а их функций и отношений между ними.
Тем более плодотворно, на мой взгляд, настаивать на их различении. Наблюдение над гротеском в его отношении к абсурду приводит к выводу, что их совместное присутствие внутри одного текста не означает ни их тождественности, ни совпадения функций. Наоборот, в таком тексте функциональна именно разница. Перефразируя определение Якобсона (и несколько злоупотребляя им), скажу, что в таком тексте принцип сдвига проецируется с парадигматической оси, где происходит выбор форм в их пространственной конфигурации-деформации (гротеск), на ось синтагматическую, где выстраивается-нарушается их причинно-следственная последовательность и/или зависимость (абсурд).
Нужно, наверное, поставить модернистскую чуткость к бессмыслице в связь с поисками «новой логики», которые были обусловлены как развитием самой логики и математической логики в работах Фреге, Рассела, Уайтхеда (недаром Льюис Кэрролл был математиком), так и модернистским бунтом против мещанской культуры, и модернистским же увлечением эзотерикой. На все эти поиски в России отзывались незамедлительно; так, очень повлиявший на футуристов Петр Д. Успенский разрабатывает логику без исключенного третьего, «третий органон», который должен казаться нелепостью приверженцам Аристотеля и Бэкона. Именно эта претензия на революционную новизну, на прорыв мысли и языка в будущее, принципиальным образом отличает алогизм модернистов и авангарда от нелепости лепета аристофановых птиц, от несуразности Сатаровых прыжков, от балаганного шутовства, от юродства, от «вздорных од» классицизма и даже от гоголевского «мира бессмыслицы» (ошибка Гоголя как раз и заключалась в том, что он не замечал всей революционности своего абсурдного гротеска и отказывался от него, строя свою утопию).
Может быть, стоило бы отделить философский абсурд от «атопии», бессмыслицы древних, и от «алогизма» современных художников. Но не будем умножать терминов: останемся при абсурде.
Следовало бы проверить кажущееся очевидным положение о том, что при всех своих искажающих свойствах гротеск отмечен частичной позитивностью, «конструктивностью», — в отличие от «деконструктивной» негативности абсурда. Гротеск всегда построен, пусть вразрез с требованиями гармонической формы. Составленный из несовместимых частей, гротескный гибрид или мир наизнанку, смешной или страшный, — жизнеспособен (как жизнеспособен в логике парадокс); в гротескном, как в безобразном по Аристотелю, выявляется некая «недостаточность» положительной творящей силы, но не ее отсутствие. Карл Густав Юнг говорил, что безобразное в культуре предвещает изменения и что плохой вкус появляется раньше хорошего[214]. Он, вероятно, думал про гротеск, способный вдувать жизнь в древние архетипы, не заботясь о правилах хорошего поведения.
Однако, особенно в наше время, если важен гротеск — плохой вкус, то важен и абсурд-замешательство чувств — отсутствие вкуса. Лишенная права на пребывание в мире науки и философии своей онтологической противоречивостью, абсурдная (де)конструкция, заявляя о собственной несостоятельности и через себя — о несостоятельности мира, существует в нем и преображает его, меняя его восприятие, порождая новые значения.
Как намекалось, появление и гротеска и абсурда симптоматично для маятникового движения от прошлого к будущему, от возрождения «первобытного», «истинного», от возврата к истокам — восточным фантазиям, сатировым драмам, средневековым маргиналиям, народному балагану, фольклорной глоссолалии — к разрушению принятых норм и форм во имя творения новых.
Положим эти наблюдения в основу рабочей гипотезы относительно одного из моментов развития русского модернизма. Отталкивание от символизма, последнюю стадию которого О. Ханзен-Лёве называет «гротескно-карнавальной»[215], кладет начало состязанию между гротеском и абсурдом.
Иначе говоря, гротеск и абсурд задают координаты (парадигматику / синтагматику) поля, в котором произрастает новая поэтика (на мой взгляд, не выдерживает испытания на историческом материале мысль о том, что гротеск появляется в начале некой эпохи, а абсурд — в конце, как ее завершение [216], хотя, вероятно, разложение поэтических систем может проходить и при сопровождении абсурдистских процедур и симптомов).
Говоря схематично, примитивизма гротескное искажение, проспективизм и абсурдное разъятие мира представляются комплементарными величинами для одного из важных течений модерна.
В таком ракурсе можно увидеть уже некоторые вещи Хлебникова и Малевича, многие манифестации заумников 1920-х годов, эксцентриаду ФЭКСов, спектакли Игоря Терентьева [217]. Предельно красноречив пример обэриутов и их сподвижников: среди них Заболоцкий, Олейников, Вагинов определяют полюс гротеска, а Хармс и Введенский — абсурда, причем, если абсурдизм Заболоцкого не так уж очевиден, то он усиливается у Вагинова и, наоборот, очень сильны элементы гротеска у Хармса. Единство этой разноликой группы обеспечивается напряжением пары сил гротеск — абсурд. Это напряжение более или менее явно пронизывает весь контекст той эпохи. Оно ощутимо, например, в живописи Павла Филонова или прозе Андрея Платонова (что и дает основание сближать их с обэриутами). В Короле, даме, валете Набокова старик, глядящий на себя в зеркало между ног, повторяет фигурки, стоящие в таких же позах на полях средневековых рукописей и на картинах Калло или Босха. Фигурки и набоковский персонаж с перевернутым взглядом (ипостась автора) символизируют в конечном итоге ограниченность человека (писателя) и безумие (неуловимость) мира. Они гротескны, а мир абсурден.