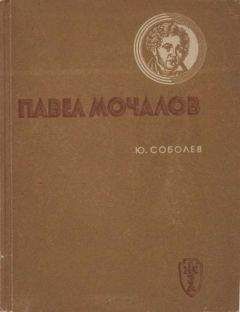Юрий Мочалов - Композиция сценического пространства
Могут возразить: а разве нельзя сцену-рассказ решить как моносцену? Сальери один в комнате, он рассказывает сам себе или воображаемому собеседнику о своих муках. Такое решение возможно. Но оно представляет собой крайность. Отказываясь от взаимодействия со зрительным залом, актер лишается львиной доли своих средств убедительности, и трудный монолог становится для него еще труднее. Мало того, человек, громко (а тут еще и стихами) беседующий сам с собой,— это уже порядочная условность. И оттого что он будет тщательно не замечать зрителя, правдоподобия не прибавится. Скорее напротив: усилия исполнителя во что бы то ни стало игнорировать публику воспримутся как нарочитость.
Что делает Сальери, произнося свой монолог? Перебирает ноты? Импровизирует на рояле? Возможно. Но все это он мог совершать до того, как ему стало необходимо высказаться. Начало сцены застает его в тот момент, когда он и приступает к этому — пытается выразить в словах давно копящуюся боль.
Отверг я рано праздные забавы...
Часть своих признаний Сальери произносит в глаза публике, часть, может быть, будучи привлечен какой-то случайной точкой в дали зала, что-то, устремляя внимание на находящиеся перед ним предметы — рояль, пюпитр, тетрадь с нотами. В монологах-рассказах предпочтение следует отдать намерению совершить физическое действие, от которого человек снова и снова отвлекается желанием поведать что-то слушателю (тот же прием «качелей»). Действие ищется прежде всего во взаимоотношениях персонажа со слушателем:
Все говорят: нет правды на земле.
Но правды нет и выше.
Воспримет ли собеседник это ошеломляющее открытие, которым музыкант рискует поделиться с первых слов своей речи? Как изложить все о себе предельно добросовестно, чтобы подойти к основному — к трагедии возникновения перед ним ослепительной звезды Моцарта? И он излагает.
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию... —
повествует Сальери, а сам спрашивает: «Верите, что я рассказываю беспристрастно?»
Вкусив восторг и слезы вдохновенья,
Я жег мой труд и холодно смотрел...
«Понимаете, чего мне все это стоило?»— вот чем занят Сальери.
А мизансцена? Предельно скупа. Многое тут определит актер. Если режиссер увидит, что лучше всего не давать ему вообще двигаться, что в статике он сильнее,— мизансцена может быть стабильна. В этом случае будет подлежать изменению только индивидуальная пластика.
Если режиссер почувствует, что убедительности монолога помогут перемещения исполнителя,— он предложит артисту несколько точек, меняющихся как в зависимости от течения жизни Сальери в собственной комнате, так и от удобства разговора его с группами людей в зрительном зале.
3.
Нерассмотренным остался вопрос о перевоплощении. Как обстоит дело с перевоплощением в этих двух разновидностях монолога?
Особенно сложно во втором. Артист вступает в поединок с публикой. Он смотрит в глаза большому скоплению людей и говорит: «Я думаю, что это так, а это — не так».
Процесс мысли на сцене неизобразим.
Монолог — сценическая форма, в которой перевоплощение должно особенно плотно смыкаться с выявлением подлинной внутренней жизни человека, а вслед за этим и выражением личности художника. Поэтому исполнителю главной роли опасно слишком нагружать себя чертами внешней характерности.
Артист играет Гамлета. Каждую минуту его трепетный ум воспроизводит мысли гения. И нам, зрителям, несомненно, ценнее выражение их исполнителем, чем созерцание внешней метаморфозы, которую производит над собой актер. Так обстоит дело с Лиром, Де Позой, Чацким, Сатиным, одним словом, со всеми, с чьими мыслями, мы, зрители, должны согласиться.
А как же быть с галереей негодяев? Как, играя Глостера — будущего Ричарда III, становиться на его позицию, да еще агитировать за нее зрителя? Не лучше ли скрыть себя за личиной монстра? Думается, что нет.
Монологи главного героя философского произведения всегда выражают мысли автора. Только опосредованно. Если изувер Глостер говорит о слабости женщины,— это Шекспир говорит о слабости женщины. Если Глостер утверждает: надо быть безжалостным, Шекспир за его спиной говорит: рождаются люди, кто видит свой принцип жизни в безжалостности. Авторская позиция очевидна. И не следует соразмерять искренность игры со степенью совпадения позиций автора и героя.
Таким образом, можно сказать, что монолог-рассказ предполагает внутреннее перевоплощение, еще точнее — перевоплощение мысли. Поэтому меру лицедейства нужно соразмерять с философской нагрузкой роли, в частности с монологами.
Моносцены, казалось бы, не так зависят от обнаженности интеллекта артиста. Но тут другое. Существуя в своем личном мирке, общаясь с отсутствующими партнерами, в одиночку воспринимая события, человек также обнажается до дна. Поэтому и здесь встает проблема внутреннего перевоплощения.
4.
Два рассмотренных вида монолога — основные.
Встречаются еще два. Но, в сущности, это иные формы тех же самых. Это монолог-сцена и монолог-рассказ в присутствии партнеров.
Знаменитые монологи Чацкого, Хлестакова — это и есть монологи-сцены с партнерами.
Органическое течение изображаемой жизни подсказывает главное правило: монолог должен вытекать из всего предыдущего, точно так же как и все последующее должно служить естественным его продолжением.
Это правило нарушается публицистическим театром, где монолог может быть откровенной вставкой, обращением к присутствующим персонажа, артиста, автора. Такой прием должен быть оправдан всей эстетикой спектакля. Если говорить о традициях русского театра, прием этот — крайность. Самые различные решения чаще всего подразумевают непрерывное течение жизни, потому монолог-сцена с партнерами обычно рассматривается как сцена. То, что возможностью разговаривать располагает лишь один человек, есть сильный ограничитель и — предельно яркое, выразительное средство. Пользоваться им надо неоднозначно.
Сверим по жизни.
Каждому из нас в повседневности тоже приходится разражаться монологами. Обратим внимание, как в этих случаях ведут себя наши партнеры, даже если не произносят ни слова. Бездействуют? О нет!..
В спектаклях монологическую сцену очень часто играет один человек. Кого в этом винить? Режиссера! Нетрудно угадать: он занимался только героем, всех остальных лишь расставил по местам. Оттого-то все остальные — манекены.
Все в сценической картине должно строиться по законам искусства, а не случайности. Даже если герой не обращается ни к кому из присутствующих на сцене, неизбежно кто-то из зрителей будет следить не за ним, а за кем-нибудь из антуража. А главное, так разрушается правда сценического бытия.
Долг режиссера — организовать взаимодействие участников сцены, говорящего и молчаливых, их статику и движение.
5.
Монолог-рассказ в сцене с партнерами тоже встречается часто. Хороший пример — монолог няни в больнице из пьесы А. Корнейчука «Платон Кречет». Няня рассказывает, как она на фронте в безвыходном положении по наитию сделала операцию — вырезала осколок из тела раненого.
Кому рассказывает об этом няня? Своим коллегам, врачам, сестрам. Поскольку тот, кто рассказывает, окружен партнерами, в большинстве случаев режиссер бывает прав, если он, не мудрствуя лукаво, выстраивает сцену так, чтобы персонаж разговаривал со своими непосредственными собеседниками.
Прием обращения в зал в таком виде монолога существует. Но он уместен только в спектакле, построенном как митинг или публицистическое зрелище.
В спектакле же бытового толка такой прием требует оправдания. Так, если бы няня в описанной выше сцене делилась своими воспоминаниями с гораздо большим числом людей, к примеру с собранием врачей, предполагаемая аудитория вполне могла бы подразумеваться на месте присутствующих зрителей. Иначе отключение рассказчика от партнеров и обращение в зал разрушает органическую ткань действия и ставит в глупое положение его партнеров. Чтобы они не стояли истуканами, хочется или пересадить их в зрительный зал, или убрать вовсе. Последнее достижимо при помощи сценического света. Весьма распространенный прием: снимать на время монолога свет со сцены, оставляя героя в луче.
Молодые режиссеры, однако, иногда не слишком разборчиво пользуются этим приемом. В спектаклях, где свет несет на себе функцию художественной краски, помогает передать атмосферу жизни, время суток, погоду, этот прием пресловут, безвкусен. Он вносит режиссерскую суету, на месте гораздо более тонких выразительных средств мы видим режиссерскую указку.