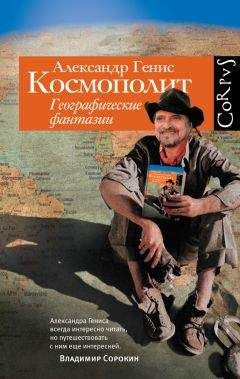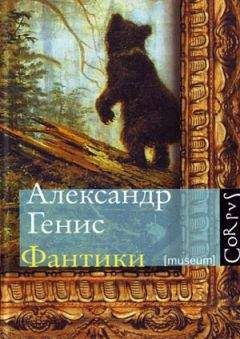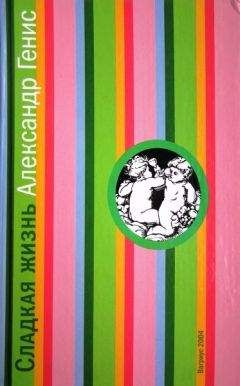Александр Генис - ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ
На этой основе возникла целая плеяда “смиренных” писателей, чьим патриархом по праву может считаться Венедикт Ерофеев. Его “слабость” — ангелическое пьянство Венички — залог трансформации мира. В поэме “Москва- Петушки” алкоголь выполняет функцию “генератора непредсказуемости”. Опьянение — способ вырваться на свободу, стать — буквально — не от мира сего. (Вновь любопытная параллель с даосскими текстами:
“Пьяный при падении с повозки, даже очень резком, не разобьется до смерти. Кости и сочленения у него такие же, как и у других людей, а повреждения иные, ибо душа у него целостная. Сел в повозку неосознанно и упал неосознанно” [30].)
Водка в поэме Ерофеева — повивальная бабка новой реальности, переживающей в душе героя родовые муки. Каждый глоток омолаживает “черствые”, окостеневшие структуры мира, возвращая его к неоднозначности, протеичности, аморфности того беременного смыслами хаоса, где вещи и явления существуют лишь в потенции.
Главное в поэме — бесконечный поток истинно вольной речи, освобожденной от логики, от причинно-следственных связей, от ответственности за смысл. Веничка вызывает из небытия случайные, как непредсказуемая икота, совпадения: все здесь рифмуется со всем — молитвы с газетными заголовками, имена алкашей с фами-
118
лиями писателей, стихотворные цитаты с матерной бранью. В поэме нет ни одного слова, сказанного в простоте. В каждой строчке кипит и роится зачатая водкой небывалая словесная материя. Пьяный герой с головой погружается в эту речевую протоплазму, дурашливо признаваясь читателю: “Мне как феномену присущ самовозрастающий логос”.
Логос, то есть цельное знание, включающее в себя анализ и интуицию, разум и чувство, “самовозрастает” у Венички потому, что он сеет слова, из которых, как из зерна, произрастают смыслы. Он только сеятель, собирать жатву — читателям, которые “реализуют” в акте чтения существующую в потенциальном поле поэму.
Слабость как категория культуры по-своему отразилась в творчестве самых разных авторов новейшей литературы, но всех их объединяет демонстративный инфантилизм, осознанно выбранный писателями в качестве художественной позиции. (Этим он и отличается от специфической “детскости” соцреализма, который ее категорически не замечал, искренне считая себя взрослым искусством.)
Обратив себя в ребенка, автор “смиренной плеяды” возвращается из безнадежно завершенного взрослого мира в то промежуточное, подростковое состояние, где есть надежда вырасти, обрести смыл,.нарастить “метафизический жирок”.
Один из самых характерных авторов этого направления Э. Лимонов, романы которого — исповедь неудачника, “лепет” невыросшего ребенка. Параметры этой прозы определяются двумя цитатами: “Все, кто шел мне навстречу, были больше меня ростом” (“Дневник неудачника”) и “Я ‹-…› не предал ‹…› мое милое ‹…› детство. Все дети экстремисты. И я остался экстремистом, не стал взрослым…” (“Это я — Эдичка”).
119
Совершенно иначе ту же категорию “слабости” использовал С.Довлатов. Описывая несовершенный мир, он смотрит на него глазами несовершенного героя. Слишком слабый, чтобы выделяться из окружающей действительности, он, искусно обходя метафизические глубины, скользит по ее поверхности. Принимая жизнь как данность, он не ищет в ней скрытого смысла. Довлатов завоевывает читателей тем, что он не выше и не лучше их. (Тут можно вспомнить китайское изречение о том, что море побеждает реки тем, что расположилось ниже их.)
В популярной на Западе интерпретации даосизма [31], где основы учения объясняют персонажи из сказки А.Милна, самым мудрым оказывается Винни-Пух, потому что у него нет заданной автором роли. Если Иа-Иа — нытик, Пятачок — трус, Тигра — забияка, то Винни-Пух просто существует, он просто “есть”. Таким Винни-Пухом в русской литературе и был Довлатов.
Тему “слабости” широко разворачивает гений самоуничижения, мнительный и болезненный, как заусеница, Дмитрий Галковский. Страх и неприязнь к сильному, “настоящему”, взрослому миру — движущий мотив его “Бесконечного тупика”. Вся книга разворачивается как подростковая фантазия, где автор берет реванш над своими обидчиками.
Еще дальше в этом сквозном для “парадигмы лука” сюжете зашел другой молодой автор — Виктор Пелевин: он и силу переосмысливает как слабость. В повести “Омон Ра” Пелевин разрушает фундаментальную антитезу тоталитарного общества: “Слабая личность — сильное государство”. Сильных у него вообще нет. Из могучей “империи зла” он разжаловал режим в жалкого импотента, который силу не проявляет, а симулирует. В посвященной “героям советского космоса” повести эту симуляцию разоблачают комические детали, вроде пошитого из бушлата скафандра, мотоциклетных очков
120
вместо шлема или “лунохода” на велосипедном ходу.
Демонстрация слабости нужна Пелевину отнюдь не для сатирических или обличительных, а для метафизических целей: коммунизм, неспособный преобразовать, как грозился, бытие, преобразует сознание. Единственное место, где он еще одерживает победы, — это пространство нашего сознания, которое он и пытается колонизировать: “Пока есть хоть одна душа, где наше дело живет и побеждает, это дело не погибнет. Ибо будет существовать целая вселенная ‹…›. Достаточно даже одной чистой и честной души, чтобы наша страна вышла на первое место в мире по освоению космоса; достаточно одной такой души, чтобы на далекой Луне взвилось красное знамя победившего социализма. Но одна такая душа хотя бы на один миг необходима, потому что именно в ней взовьется это знамя” [32].
Обнаружив свою слабость, коммунизм неожиданно выворачивается из “парадигмы капусты”, превращаясь из врага чуть ли не в союзника. Он вступает с действительностью в уже знакомые нам из истории образа мистические отношения: реальность оказывается не данностью, не внешним объектом, а итогом его целенаправленных усилий.
Строя действительность по своему образу и подобию, коммунизм разрушает собственную основу. Вместо эволюции с ее неизбежной сменой общественных формаций появляется концепция множественности миров, множественности конкурирующих между собой реальностей.
Этот “коперниковский” переворот в советской метафизике отобрал у нее смысл, но не метод. Напротив, в “парадигме лука” с огромным интересом присматриваются к коммунистическому опыту “миростроения” и освоения “пространства души”. Ведь эту практику легко связать с концепцией “рукотворной” реальности, к вос-
121
приятию которой тоталитарный режим подготавливает лучше демократического.
Вот как этот тезис, полемизируя, кстати сказать, со мной по поводу “метафизического аспекта совковости”, развивает тот же В. Пелевин:
“Советский мир был настолько подчеркнуто абсурден и продуманно нелеп, что принять его за окончательную реальность было невозможно даже для пациента психиатрической клиники. И получалось, что у жителей России, кстати, необязательно даже интеллигентов, автоматически — без всякого их желания и участия — возникал лишний, нефункциональный психический этаж, то дополнительное пространство осознания себя и мира, которое в естественно развивающемся обществе доступно лишь немногим.‹…›
Совок влачил свои дни очень далеко от нормальной жизни, но зато недалеко от Бога, присутствие которого он не замечал. Живя на самой близкой к Эдему помойке, совки заливали портвейном “Кавказ” свои принудительно раскрытые духовные очи…” [33]
Метафора “лишнего этажа” крайне характерна для центробежной культурной модели, которая не ищет скрытой сути мира, а создает себе смыслы в специально “надстроенной” для этого реальности. В России крах коммунизма освободил этот дополнительный “психический этаж”, который и торопится захватить “парадигма лука”.
Обратясь в очередной раз к свидетельству книжного развала, мы обнаружим там недостающие компоненты мировоззренческой модели “парадигмы лука” — это популярные сейчас сочинения двух мистиков: русского Петра Успенского и американского Карлоса Кастанеды. Такая неожиданная избирательность вкусов, вероятно, объясняется тем, что их учения пересекаются в одной, отправной точке — той, где реальность трактуется как ее интерпретации.
122
В предисловии к “Путешествию в Икстлан” Кастанеда пишет:
“Дон Хуан убеждал меня в том, что окружающий мир был всего лишь описанием окружающего мира, воспринимаемого мною как единственно возможное, потому что оно навязывалось мне с младенчества. ‹…›
Главное в магии дона Хуана — осознание нашей реальности как одного из многих ее описаний” [34].
По-своему, но об этом пишет и Успенский. Его сложные мистико-математические конструкции строятся на том, что мы воспринимаем мир, налагая на него “условия времени и пространства”: