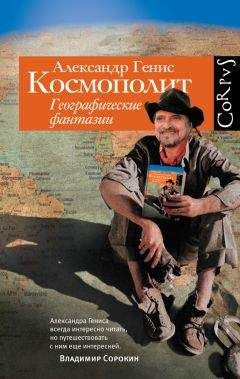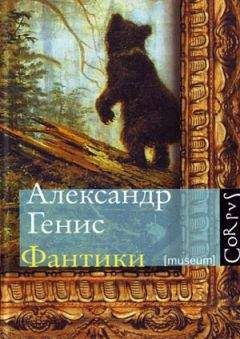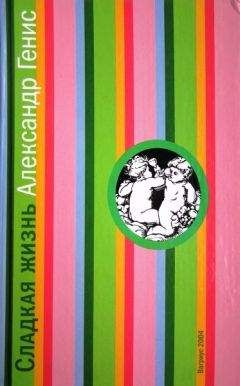Александр Генис - ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ
Поскольку процесс коммунистического строительства давал прямо противоположные результаты, советской метафизике приходилось все энергичнее замазывать про-
108
пасть между теорией и практикой. Чем меньше порядка было в жизни, тем больше его должно было быть в искусстве. Этим объясняется нарастающая нетерпимость коммунизма к “неорганизованному” искусству — от разгрома авангарда и статьи “Сумбур вместо музыки” до хрущевских гонений на абстракционистов и брежневской “бульдозерной” выставки. Не случайно из всех символов советской метафизики самым долговечным оказался “порядок”. Меняясь и приспосабливаясь, он по-прежнему узнаваем в мечтах о “регулируемом рынке” и “сильной руке”.
Порядку, этой последней утопии советской метафизики, противостоит хаос. “Открытие” хаоса точными науками, которое по значению сравнивают с теорией эволюции и квантовой механикой, начинает оказывать сильное влияние и на гуманитарную мысль. Позитивная переоценка хаоса рождает новую картину мира, в которой, как пишет один из основателей “хаосологии”, нобелевский лауреат Илья Пригожин, “порядок и беспорядок представляются не как противоположности, а как то, что неотделимо друг от друга” [15]. Хаос становится не антагонистом, а партнером порядка: по Пригожину, “анархия хаоса стимулирует самоорганизацию мира” [16].
Чтобы воспроизвести простейшую ситуацию хаоса, говорят ученые, достаточно привесить к одному маятнику другой. Амплитуду ординарного маятника описывают элементарные законы механики, но график колебания двойного маятника становится непредсказуемым.
В искусстве создание “хаосферы” [17] требует введения в текст абсурдного элемента, который и выполняет роль второго маятника — становится “генератором непредсказуемости”.
Инъекция непонятного переводит диалог читателя с текстом на другой язык, схожий с “умопостижимым и непереводимым”(Леви-Строс) языком музыки. (Именно таким языком пользуется вся рок-культура.)
109
Как написал Джон Фаулз, ставший сейчас одним из самых модных иностранных писателей в России, “перед лицом неведомого в человеке дробится мораль, и не только мораль ‹…› неведомое — важнейший побудительный мотив духовного развития” [18].
Изучая эту проблему, Ю. Лотман в своей последней книге — “Культура и взрыв” — пишет: “Искусство расширяет пространство непредсказуемого — пространство информации — и одновременно создает условный мир, экспериментирующий с этим пространством и провозглашающий торжество над ним”. Искусство “открывает перед читателем путь, у которого нет конца, окно в непредсказуемый и лежащий по ту сторону логики и опыта мир”. Такое искусство из мира необходимости способно “перенести человека в мир свободы”. Лотман называет и перспективный жанр, в котором это “свободолюбие” способно развернуться: “Движение лучших представителей фантастики второй половины XX века пытается перенести нас в мир, который настолько чужд бытовому опыту, что топит тощие прогнозы технического прогресса в море непредсказуемости” [19].
И ведь действительно, как убеждает упомянутый вначале книжный развал, из очень немногих авторов, переживших обвальный кризис советской литературы, выделяются феноменально популярные братья Стругацкие. Не потому ли, что осторожные эксперименты с хаосом они начали еще во времена расцвета советской метафизики?
В первую очередь тут следует сказать об их лучшей книге “Улитка на склоне”. Эта написанная в 1965 году повесть состоит из двух отдельных текстов, которые цензура даже не разрешила печатать вместе. Как объясняют сами авторы, одна часть, “Лес”, — это будущее, другая, “Управление”, — настоящее. Идея книги в том, что “будущее никогда не бывает ни хорошим, ни плохим. Оно никогда не бывает таким, каким мы его ждем” [20].
110
Разрыв между настоящим и будущим разрушает причинно-следственную связь, создавая одну из знаменитых своей изощренностью “хаосфер” Стругацких. Свою роль тут играют специально встроенные в текст “генераторы непредсказуемости” — текстуальные машины хаоса:
“Ким диктовал цифры, а Перец набирал их, нажимал на клавиши умножения и деления, складывал, вычитал, извлекал корни, и все шло как обычно.
— Двенадцать на десять, — сказал Ким. — Умножить.
— Один ноль ноль семь, — механически продиктовал Перец, а потом спохватился и сказал: — Слушай, он ведь врет. Должно быть сто двадцать.
— Знаю, знаю, — нетерпеливо сказал Ким. — Один ноль ноль семь, — повторил он. — А теперь извлеки мне корень из десять ноль семь…
— Сейчас, — сказал Перец” [21].
Ясно, что высчитанное таким образом будущее не будет иметь ничего общего с настоящим. “Врущий” арифмометр” — это мина, заложенная под бескомпромиссный детерминизм советской метафизики. Не зря “Улитку” десятилетиями не пускали в печать.
Роль хаоса становится еще заметнее в сотрудничестве Стругацких с А.Тарковским в фильме “Сталкер”. Длинный ряд отвергнутых режиссером сценариев “Сталкера” показывает, что в исходном тексте — повести “Пикник на обочине” — Тарковского интересовал исключительно “генератор непредсказуемости” — Зона. Нещадно отбрасывая весь научно-фантастический антураж, режиссер вытравливал из своего фильма “логику” метафоры, способную спихнуть картину в обычное русло советской метафизики. Можно сказать, что в “Сталкере” Тарковский переводил произведение Стругацких с языка аллегорий на язык символов в том смысле, который вкладывал в эти понятия Юнг:
“Аллегория есть парафраза сознательного содержания; символ, напротив, является наилучшим выражением лишь предчувствуемого, но еще неразличимого бессознательного” [22].
Зона у Тарковского — это “поле чудес”, или “пространство непредсказуемости” Лотмана. Здесь может произойти все что угодно, потому что в Зоне не действуют законы, навязываемые нами природе.
Если вселенная советской метафизики предельно антропоморфна — она сотворена по образу и подобию человека, — то Зона у Тарковского предельно неантропоморфна. Поэтому в ее пределах и не действует наша наука.
“Сталкер” — это фильм о диалоге, который человек ведет с Другим. Для их общения язык советской метафизики не годится, потому что у собеседников не может быть общего означаемого. Понять друг друга они могут только на языке самой жизни. Посредник между человеком и Зоной — Мартышка, дочь Сталкера, которая ведет этот диалог напрямую: Зона, отняв у Мартышки ноги, лишила ее свободы передвижения, но взамен научила телекинезу, способности передвигать предметы силой мысли.
По свидетельству Бориса Стругацкого, главная трудность работы с Тарковским заключалась в несовпадении литературного и кинематографического видения мира:
“Слова — это литература, это высокосимволизированная действительность ‹…› в то время как кино — это ‹…› совершенно реальный, я бы даже сказал — беспощадно реальный мир” [23].
“Беспощадность” кинематографического реализма заключается, видимо, в том, что кино, как писал Тарковский, способно остановить, “запечатлеть” время, обратив его в матрицу реального времени, сохраненную в металлических коробках надолго (теоретически навечно)” [24].
То есть кино, по Тарковскому, отбирает у советской метафизики источник смыслов — эсхатологический “нулевой момент”.
112
Вяч. Иванов вспоминает высказывания режиссера о замысле фильма “Зеркало”, где главную роль должна была исполнять мать Тарковского:
“Из материала, фиксирующего в этом идеальном случае целую человеческую жизнь от рождения до конца, режиссер отбирает и организует те эпизоды, которые в фильме передают значение этой жизни. Из современных ему режиссеров мысли, почти слово в слово совпадающие с этой основной концепцией кино у Тарковского, высказывал Пазолини. Согласно Пазолини, монтаж делает с материалом фильма то, что смерть делает с жизнью: придает ей смысл” [25].
Тарковский делал нечто прямо противоположное Пигмалиону — пытался обратить Галатею (живого человека, в данном случае свою мать) в произведение искусства.
На первый взгляд эта практика отнюдь не чужда советской метафизике, которая всегда требовала “воплощать” реальных героев в художественных образах. Но разница, и грандиозная, в том, что в прототипе ценилось не индивидуальное, а типическое. Человек мог стать персонажем лишь тогда, когда он обобщался до типа: скажем, превращался из конкретного Маресьева в метафорического Мересьева. Художественный тип — это и есть “упорядоченная”, “организованная” личность, вырванная из темного хаоса жизни и погруженная в безжизненный свет искусства.