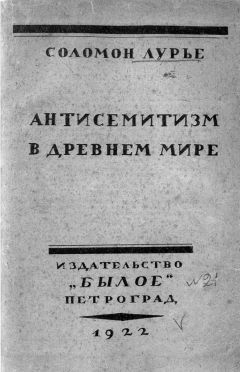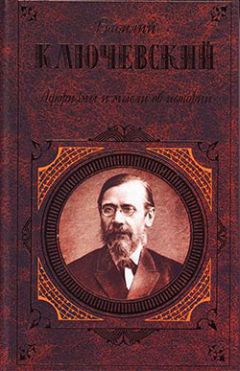Евгений Добренко - Политэкономия соцреализма
Спустя полвека после новороссийской поездки Екатерины маркиз де Кюстин довел потемкинский «миф» до культурно–исторической доктрины. Так, по утверждению Рыклина, выходом книги де Кюстина можно «довольно точно датировать возникновение культурной границы» между Россией и Европой[146]. Как известно, книга эта была встречена в России с возмущением. Между тем спустя полтора столетия после ее выхода Джордж Кеннан писал, что, хотя она и посвящена николаевской эпохе, но в равной мере применима к эпохе Сталина и Брежнева[147].
Позиционируя Россию в качестве «символической изнанки Европы»[148], Кюстин утверждал, что начиная с Петра Россия ложно выдает себя за «настоящую Европу», тратя все свои духовные ресурсы не просто на подражание Европе, но еще и на амбиции учить ее. Все время повторяя, что «русские что‑то скрывают» от европейца, Кюстин находится на протяжении всей книги в своего рода поиске – что же именно? Это придает сюжету некую остроту и тайну. Пытаясь сформулировать ответ автора, Рыклин так передает его смысл: «Фактически автор хочет, но не решается сказать, что оригинальны в России именно ее наиболее варварские проявления, уникальные кровопийцы вроде Ивана Грозного и их подданные, терпение которых граничит с пособничеством крайностям тирании, беспримерный страх, доносительство и пр.»[149] Итак, выставляя себя в качестве «Европы», Россия скрывает, по сути, свою варварскую оригинальность. Согласно Кюстину, традиция симулирования «цивилизации» является отличительной чертой российской цивилизации и не знает себе равных в Европе. Отсюда постоянные ссылки на то, что русские – «вчерашние татары», «дикари, наделенные тщеславием светского человека» (1, 290), что их удел – «вечно подражать другим народам, дабы казаться просвещенными, не став ими на деле» (2, 177).
По сути, Кюстин ставил в своей книге проблему «ложного мимесиса»: «для русских слова важнее реальности» (1, 111), архитекторы занимаются здесь не возведением зданий, но «постройкой декораций» (1, 135), Петербург – это «раскрашенная Лапландия» (1, 256), «столица–театр», где «снаружи дворец, изнутри позолоченное, обитое бархатом и шелком стойло» (1,134), а сама Российская империя – «выкрашенная степь и оштукатуренное болото» (1, 288), «огромная театральная зала, где из всякой ложи видно, что творится за кулисами» (1, 149). Знаменитые определения «страна фасадов» (1, 155), русская цивилизация – «одна видимость» (1, 164), «светская комедия», разыгрываемая при дворе императора (1, 180); Россия – «страна мнимостей, где все вызывает недоверие» (1, 181); она – «империя каталогов» (1, 249), поэтому «у русских есть названия для всех вещей, но нет самих вещей; они богаты только на словах» (1, 158). Описываемое им сплошное подражание, отсутствие в России всякой оригинальности, «обезьянничанье» восходят к первому «Философическому письму» Чаадаева.
Здесь мы подходим к самой сути российского социалистического проекта, часто вовсе неформулируемой и неосознаваемой: Революция стала для России с ее многовековой тягой в «европейский дом» (а то и амбициями стать учителями его хозяев) настоящими воротами в европейскую (а значит, и мировую) историю. У России появился шанс вхождения в Европу не просто со «своим», локальным, но именно с глобальным европейским проектом – через социализм. В этом вхождении потому и было столько «гордости», что в нем, по сути, снималась извечная российская травма европейской неполноценности. Однако, сколь бы важным это вхождение ни было, оно не могло не быть мнимым. Ничего не изменилось: Россия в XX веке входила в Европу так же, как и при Кюстине: через дискурс и репрезентацию, выдаваемые на этот раз за «социализм». Этот социализм – в соответствии с характеристикой российского «догоняющего развития» – можно определить как «догоняющий дискурс».
Спустя полтора десятилетия после выхода в свет книги Кюстина Николай Чернышевский опубликовал свою ставшую знаменитой диссертацию «Эстетические отношения искусства к действительности». Суть его эстетической теории, которая в сталинскую эпоху получила статус провозвестницы «ленинской теории отражения»[150] – «методологической базы» соцреализма, – сводилась к формуле: «Прекрасное – это жизнь». И не просто «жизнь», но «жизнь, как мы ее понимаем», «хорошая жизнь, какой она должна быть по нашим понятиям». Ирония состоит в том, что этот гимн «жизни» был создан одним из самых радикальных мыслителей страны, где «хорошая жизнь» по «понятиям» давно была поставлена на конвейер эстетического производства, не просто успешно соревновавшегося с реальностью, но повсеместно заменявшего ее.
Неудивительно, что этот «эстетический спор» в раскаленной атмосфере 60–х годов XIX века принял политический характер. Еще более радикальный критик российской действительности, Дмитрий Писарев, прозрев истинные корни «ослепления», выступил по поводу выхода книги Чернышевского с программной статьей «Разрушение эстетики», где утверждал, что Чернышевский, требуя «жизни», на самом деле стремился к разрушению ненавистной «эстетики» и замене ее… политической экономией: «Надо говорить с обществом в том тоне, к которому оно привыкло. Надо говорить так: «Вы, господа, уважаете эстетику. Займемтесь же вместе с вами эстетическими исследованиями». Привлекши к себе таким образом сердце доверчивого читателя, лукавый последователь новой идеи, конечно, займется своими эстетическими исследованиями так успешно, что разобьет всю эстетику на мелкие кусочки, потом все эти мелкие кусочки превратит поодиночке в мельчайший порошок и, наконец, развеет этот порошок на все четыре стороны. «Куда же ты, озорник, девал мою эстетику, которую ты уважаешь?» – спросит огорченный читатель, наказанный за свою доверчивость. «Улетела твоя эстетика, – ответит писатель, – и давно тебе пора забыть о ней, потому что немало у тебя всяких других забот». – И вздохнет читатель и поневоле примется за социальную экономию. […] Когда читатель будет таким образом обуздан и посажен за работу, тогда, разумеется, эстетические исследования, погубившие эстетику, потеряют всякий современный интерес и останутся только любопытным историческим памятником авторского коварства»[151].
Тут главный русский нигилист ошибся: не вчера научились «доверчивые господа» в России «уважать эстетику» и не «коварству» одного автора, закованного в той самой Петропавловской крепости, о которой в полном ужасе писал Кюстин, было ее разбить, а потому не суждено было стать его трактату «только любопытным историческим памятником».
Осколки зеркала русской революции, или Абсолютный Горький
В очерке о Ленине Горький заметил: «Русская литература – самая пессимистическая литература Европы; у нас все книги пишутся на одну и ту же тему о том, как мы страдаем. […] Каждый русский, посидев «за политику» месяц в тюрьме или прожив год в ссылке, считает священной обязанностью своей подарить России книгу воспоминаний о том, как он страдал. И никто до сего дня не догадался выдумать книгу о том, как он всю жизнь радовался». Примечательно это суждение не только характеристикой русской литературы, которая, хотя и была самой пессимистичной в Европе, смогла создать вокруг российской реальности некую эстетизирующую ее ауру, некое зачарованное волшебное царство на месте «свинцовых мерзостей» российской действительности. Здесь содержится целая эстетическая программа: борец с символистской «творимой легендой» призывает «выдумать книгу» (несмотря на тюрьму и ссылку!) о том, как автор «всю жизнь радовался». Суждение это выдает в Горьком художника, придерживающегося самого радикального эстетизма.
Можно предположить, что эта «позитивная эстетика», расположенная «по ту сторону» понятий правды и лжи, восходила к раннему Горькому (спор о правде и лжи он начал еще Лукой в пьесе «На дне») и впадала в полноводную реку соцреализма, для которого сами эти понятия нерелевантны. Именно в этом смысле можно говорить о том, что советские романы и фильмы о счастье не «лгут», в чем обвиняли соцреализм на протяжении десятилетий. Подобные обвинения основаны на ошибочном признании в качестве реальных эстетических установок утверждений самого соцреализма об «отражении» им некоей «правды жизни».
Нам представляется, что основой соцреализма является все же не столько метасюжет (описанный Катериной Кларк как переход от стихийности к сознательности[152]), сколько коллизия реальность/идеал: соцреализм не есть нарратив; он есть дискурс, производящий – при посредстве нарратива – реальность. Вся история советской эстетики до провозглашения соцреализма в 1932 году свидетельствует о том, что именно здесь были сосредоточены основные споры.
Еще в 1923 году Троцкий писал о «новой государственной театральности»[153]. Идеи эти носились тогда в воздухе. Развивая их, режиссер Николай Евреинов утверждал, что революция должна «вывести нас на дорогу новых одухотворенных, облагороженных, проникнутых коллективной театральностью форм быта»[154]. Откликаясь на эти призывы, один из ведущих левых эстетиков Борис Арватов заявлял, что это позиция «эстетизаторов жизни»: «Они не умеют найти, не видят, не воспринимают эстетики самой действительности, – жизнь им кажется чем‑то недостаточным и требующим восполнения. Им хочется взять эстетику напрокат у вне–бытового искусства, у искусства, противопоставленного действительности»[155]. Эта «деэстетизаторская» установка, которую теория соцреализма будет воспроизводить бесконечно (по сути, так называемая «теория бесконфликтности» и сводилась к утверждению «прекрасности» самой жизни), внутренне противоречива. В те же дни на тех же страницах «ЛЕФа» другой радикальный теоретик левого искусства Николай Чужак утверждал, что задачей искусства является «реализация той воображаемой, но основанной на изучении действительности антитезы, в выявлении которой заинтересован завтрашний день […] т. е. под знаком нового и нового процесса вечно обновляющейся и развивающейся изнутри материи»[156]. Здесь важна, во–первых, мысль об искусстве как о реализации воображаемой действительности (Чужак даже утверждал, что искусство – это «коллективное выковывание из самой жизни новых образцов»[157]), а во–вторых, прозрение знаменитой формулы Жданова о «жизни в ее революционном развитии» за десять лет до введения самого соцреализма (Чужак, вполне по Жданову, призывал «вскрыть новую действительность, таящуюся в недрах современности»[158]).