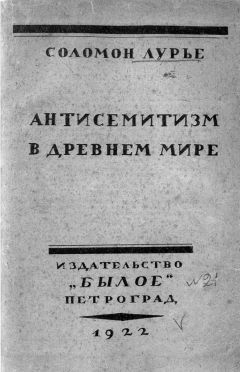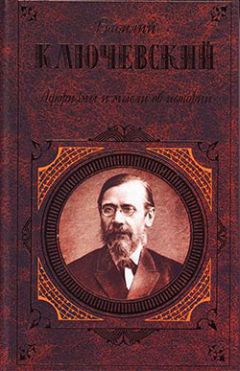Евгений Добренко - Политэкономия соцреализма
На самом деле, для того чтобы стать «эстетикой сталинской политики», соцреализм должен был стать составной частью этой политики, а не простой виньеткой к ней. Гройс смотрит на ситуацию исключительно из сферы самого искусства. Однако зрителем этого представления был не столько Сталин, сколько самое население, каковое было и рабочими сцены, и одновременно зрителями (для которых нужно было дереализовать их реальный труд рабочих сцены), и в конечном счете авторами (поскольку именно масса является истинным источником террора; вождь же – только менеджером). Вместо постановки вопроса о том, какие эстетические задачи ставил себе сталинизм, Гройс эстетизирует сталинскую политику, тем самым превращая ее в некую метафору. Между тем эстетика действительно играла огромную роль в политике, и вовсе не метафорическую (только ли для Сталина строилось московское метро?), но совершенно утилитарную. Метро, каналы, плотины и лесозащитные полосы создавались в целях сугубо политических. Дереализация тяжелой повседневности, превращение ее в «социализм» были неотъемлемой частью проекта. В этой тавтологии состоял «производственный цикл» сталинизма. Политизация эстетики и эстетизация политики вовсе не означают, что что‑то заменяется чем‑то. Политика как сфера отношений власти остается определяющей, а функции эстетики в этой сфере лишь преобразуются, тогда как в эстетизированном мире Гройса эстетика заменяет политику. Это постмодернистская стратегия, характерная для соц–арта, но не для соцреализма. Нет, ГУЛАГ не исчез в результате эстетизации сталинского мира; он лишь дереализовывался при помощи эстетики.
Не видя границ и функций эстетизации в сталинизме, Гройс утверждает: «Пафос абсолютного в соцреализме переходит в саму реальность, которую эта картина хочет изобразить и которая является «реальностью будущего в настоящем» и потому более реальна, нежели любая эмпирическая реальность, т. е. суперреальна или если угодно, сюрреальна»[142]. Между тем соцреалистическая реальность не «более реальна», чем эмпирическая. Просто сталинская культура непрозрачна: «эмпирическая реальность» как таковая нерелевантна здесь. Действительно, эстетизация – важнейшая практика социалистического производства, но ею это производство не исчерпывается. Оно исчерпывается только новой реальностью – социализмом. Эстетическое здесь – лишь предикат, но не субъект.
Нищета реальности, или Абсолютный Чернышевский
Перефразируя известную фразу Ленина, можно сказать, что Россия была беременна таким социализмом. Как известно, маркиз де Кюстин относил озабоченность репрезентативной стороной «действительности» в России едва ли не к эпохе Мономаха[143]. Даже если подобное предположение является исторической натяжкой (что несомненно), все равно проблема оформилась в исторический анекдот достаточно давно. Причем в исторической перспективе уже и не ясно, идет ли речь об анекдоте или мифе. Мифе настолько мощном, что самое понятие «потемкинские деревни» вошло в иностранные языки, став нарицательным.
Авторитетный специалист по русской культуре XVIII века Александр Панченко посвятил этой проблеме отдельное исследование. Проанализировав огромный исторический материал, переписку и мемуары придворных и дипломатов, он пришел к выводу о том, что «потемкинские деревни» – всего лишь культурный миф, имевший, однако, под собой целый ряд оснований. Прежде всего «Потемкин действительно декорировал города и селения, но никогда не скрывал, что это декорации», более того, «потемкинская феерия была […] блестяща, разнообразна и непрерывна»[144]. Весь этот Диснейленд был настоящим «тематическим парком». Во всех этих декорациях Панченко выделил ряд ключевых тем: тема флота, мотив армии и наконец (поскольку Новороссия была совсем недавно присоединена к империи Екатерины II и представляла собой «пустынную степь, без городов, дорог, почти без оседлого населения») сугубо репрезентативная функция: «Целью Потемкина было продемонстрировать, что этот обширный край уже практически цивилизован, или, по крайней мере, энергично цивилизуется» (С. 419).
Таким образом, за пресловутыми «потемкинскими деревнями» стояла не попытка обмана, но едва ли не социальное макетирование, для пущей похожести откровенно театрализованное. Дело в том, что за этой «реальностью», утверждал Панченко, стояли «планы Потемкина. Они были грандиозны до фантастичности, […] Парадоксальность ситуации состоит в том, что Потемкин более всего потряс путешественников не тем, что он показал, а тем, что они могли увидеть на планах» (С. 421). Таким образом, «деревни» были своего рода макетами, «студийными» фундусными постройками–иллюстрациями грандиозных планов (включая и знаменитые ширмы, на которых были нарисованы деревни, и тучные стада, ночью перегонявшиеся на новое место по пути следования императорского кортежа).
Панченко признает, что все это было «мегаломанией», попыткой конкурировать не только с Петром, но и с Европой. Так, если Екатеринослав задумывался как соперник Петербурга, то заложенный во время новороссийского путешествия императрицы екатеринославский собор должен был по грандиозности превосходить собор Св. Петра в Риме. Потемкин приказал архитектору превзойти эту главную святыню католического мира, «пустить на аршинчик длиннее, чем собор в Риме» (С. 420), точно так же как впоследствии Дворец Советов должен был превзойти в размерах Empire State Building – неважно при этом, что екатеринославский собор был впоследствии выполнен в значительно более уменьшенном масштабе, так что заложенный изначально фундамент послужил основанием для… внешней ограды собора, подобно этому и Дворец Советов так никогда и не был построен – его фундамент был превращен в бассейн «Москва».
Среди приводимой Панченко переписки огромной свиты, изумлявшейся грандиозностью «русских прожектов», обращают на себя внимание слова одного из дипломатов о том, что Россия «в данную минуту есть наиболее обильная проектами страна» (С. 424). Впрочем, Панченко полагал, что скепсис иностранцев был скорее всего маской, «за которой скрывался страх, что Россия сумеет осуществить свои грандиозные планы» (С. 424). Вот в этих‑то кругах, полагал Панченко, и родился «миф о потемкинских деревнях» (что же касается «русских подголосков», то они были просто конкурентами Потемкина, и «их поползновения были прежде всего карьеристскими»), Как и всякий политический миф, этот имел вполне определенные функции: Европа показывала Турции, что в Тавриде ничего нет – ни войска, ни флота, одни «потемкинские деревни», подталкивая Турцию к открытому столкновению с Россией, к захвату Крыма. А вот когда война разразилась, «Турции пришлось убедиться, что миф о «потемкинских деревнях» – это действительно миф» (С. 424).
Разобранный Панченко миф интересен не столько своим содержанием, сколько «обнажением приема». Не в том дело, были ли иностранцы настолько недобросовестными, что создали вздорный миф о «потемкинских деревнях», а соотечественники–недоброжелатели всесильного екатерининского фаворита настолько ослепленными ненавистью к нему, что поддержали этот «антипатриотический вздор» (в конце концов, Екатерину и императора Иосифа по Новороссии сопровождала не случайная публика, но огромная свита враждующих придворных, профессиональных дипломатов, искушенных политиков, не для того приехавших в эти мертвые степи, чтобы восхищаться плодами сомнительной «цивилизации»), но в том, что сам феномен выходит далеко за пределы конкретной политической ситуации и должен рассматриваться в широкой исторической перспективе.
Как знать, не это ли имел в виду В. О. Ключевский, когда писал, что в России еще во времена Екатерины II «люди судили о своем времени не по фактам окружавшей их действительности, а по чувствам, навеянным поверх этой действительности»[145]. «Чувства», а точнее – политико–идеологическое фантазирование, захватившее екатерининского вельможу, – лишь исходная точка, за которой реальность подлежит полному преображению. Ведь основной интерес здесь связан с театральной материализацией «прожектов», когда яви от «планов», замыслов от свершений, а причин от следствий отличить уже невозможно. Центральной проблемой здесь, несомненно, является проблема перцепции. Из приведенных Панченко материалов становится ясно, что «потемкинские деревни» и существовали, и «не существовали» одновременно: под сомнение берется не их существование, но интерпретация. Между тем этот «миф» со странным постоянством воспроизводит себя на протяжении столетий, что заставляет предположить в нем нечто большее, чем просто «недоброжелательство»: по сути, под сомнение постоянно ставится – со времен екатерининского путешествия до сегодняшнего китча новорусской Москвы, за кричащей «роскошью» которой стоит нищая, необустроенная, как всегда, страна, – сама реальность этой цивилизации.