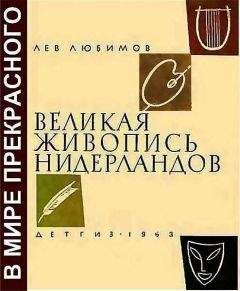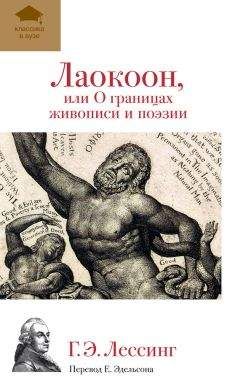Лени Рифеншталь - Мемуары
Мне претило перенимать воззрения и мнения взрослых. Часто два каких-нибудь солидных человека, бывших для меня, ребенка, одинаково большими авторитетами, противоречили друг другу, утверждая прямо противоположное. Я страдала от этого, ибо не знала, кто из них прав. Что только не лезло мне в голову! В то время из-за участившихся убийств детей на сексуальной почве бурно обсуждалась возможность применения к преступникам смертной казни. Я внимательно следила за развернувшейся дискуссией. Очень занимали меня вопросы религии и личной свободы. Со школьными подругами говорить об этом не имело смысла — их совершенно не интересовали подобные темы, поэтому я довольно рано стала держаться особняком.
Мне было двенадцать, когда я своими глазами увидела, как на берлинской Бель-Альянсштрассе машина переехала маленькую девочку. И по сей день слышу душераздирающие крики ее матери. А тогда долго не давали покоя самые разные мысли. Как Бог допустил подобное? Что бы я сделала, если бы такое случилось с моим ребенком? Проклинала бы свою жизнь? Задумывалась я и над другим, например: что значила бы для меня красота природы, если бы я вдруг ослепла или не смогла ходить?
Родители удивлялись моей бледности. Неделями я едва притрагивалась к еде и проводила бессонные ночи в размышлениях. Детский рассудок подсказал наконец, что все зло мира, будь оно действительно беспредельным, давно поглотило бы добро. И уже не было бы ни единой былинки, ни единого цветка, ни единого дерева. За миллиарды лет у зла хватило бы времени, чтобы все разрушить и погубить. Во мне победила надежда, и я вдруг почувствовала себя свободной. Я знала, что стану говорить жизни «да» — всегда, что бы со мной ни случилось.
С той поры каждый вечер перед сном я молилась, чтобы обрести силы вынести все-все, никогда не проклинать жизнь, но вечно благодарить Всевышнего. В последующем это стало неисчерпаемым источником моих жизненных сил.
Раухфангсвердер
Раухфангсвердер — полуостров на Цойтенском озере, к юго-востоку от Берлина; напротив него, на участке железной дороги Берлин — Кёнигсвустерхаузен расположено местечко Цойтен — одно из самых красивых в окрестностях столицы.
Мои родители владели прилегающим прямо к озеру земельным участком с великолепным заросшим лугом. На берегу стояли высокие плакучие ивы, их ветви касались водной глади. Недалеко от луга я соорудила себе соломенный шалаш; его обступал маленький садик.
Часть участка родители засаживали всяческой «полезностью»: зеленью, овощами, картофелем. В Цойтене отец бывал куда миролюбивей, чем в городе: часами удил рыбу и часто предлагал мне сыграть с ним в шахматы или бильярд. Иногда даже звал в качестве «третьего» поиграть в скат.
Чтобы совсем отгородиться от мира, я посадила вокруг своего шалаша подсолнухи, которые вымахали в рост человека. Здесь я много мечтала. Думала, как было бы прекрасно стать монашкой! Прохлада монастырей, их исполненные покоя сады нравились мне. С другой стороны, доставляли удовольствие и самые необузданные игры. Вместе с соседскими детьми — ватагой мальчиков и девочек — я лазала по деревьям, плавала, гребла и ходила наперегонки под парусами. Для меня тогда не существовало ничего слишком опасного. А в промежутках — тянуло в шалаш писать стихи и пьесы. Я была прямо-таки до безумия влюблена в природу, и потому героями моих опусов становились не люди, а деревья, птицы, даже жуки, гусеницы и пчелы.
В первом классе школы в Берлине-Нойкёльне — родители переехали из Веддинга на Херманнсплац — нам, девочкам, доставляло особое удовольствие красть яблоки на овощном рынке. Заводилой почти всегда оказывалась я.
Улучив момент, мы опрокидывали корзины и подбирали далеко укатившиеся яблоки. Когда меня поймали за этим занятием, отец устроил мне хорошенькую взбучку и запер на целый день в темной комнате. Он вообще не давал дочке-сорванцу спуску.
Когда мы жили на Херманнсплац, произошел еще один ужасный случай. Тогда в Берлине объявился убийца-садист, которого не удавалось поймать много лет. Он вспарывал детям животы. Все страшно его боялись. Однажды вечером отец велел мне пойти за пивом. Пивная находилась в нескольких минутах ходьбы от нашего дома. Держа в руках сифон — так называли тогда большие белые фарфоровые кружки с крышкой, — я побежала вниз по лестнице и вдруг замерла от ужаса. На лестничной площадке спиной ко мне стоял мужчина, вперив взгляд в окно, за которым в темноте ничего нельзя было разглядеть. От незнакомца так и веяло чем-то зловещим. Когда я проскочила у него за спиной, он даже не шелохнулся. Я страшно перепугалась, но старалась утешить себя тем, что ко времени моего возвращения он, конечно, уже уйдет.
И вот с наполненным сифоном я стою перед дверью дома, не отваживаясь войти. Что делать? Дать знать родителям — невозможно, телефона у нас нет. Оставаться ночью на улице тоже никак не хочется. Наконец я решилась подняться наверх. Мужчина, широко расставив ноги, стоял в той же позе и все так же молча и пристально смотрел в темное окно. Я обхватила пивную кружку и стремглав помчалась мимо, перескакивая сразу через несколько ступенек. Но далеко не убежала. Он схватил меня сзади за воротник и стал душить. Я выронила кружку, упала на лестницу и закричала что есть мочи. В тот же миг несколько жильцов распахнули двери. Их встревожил поднявшийся шум. Мужчина выпустил меня и бросился бежать. Я и по сей день столбенею, когда слышу за собой чьи-то шаги…
Мои дедушка с бабушкой со стороны матери родом из Западной Пруссии. Они переселились в Польшу, где дедушка работал строителем. Его первая жена умерла, родив восемнадцатого ребенка — это была моя мать; он женился на воспитательнице своих детей, родившей ему еще троих. Когда Польшу завоевала Россия, он, не приняв русского подданства, уехал в Берлин. Семье приходилось экономить на всем. Дедушка был слишком стар, чтобы работать, однако на вид казался крепким и вообще выглядел превосходно. Я любила его, он всегда был приветлив и с удовольствием играл со мной. Но самая младшая из его детей, тетя Тони, не прощала ему такой оравы — двадцать один ребенок! Моя мать, владея иголкой, помогала родителям шитьем и продажей блузок. А еще я словно вижу, как мы сидим за большим длинным столом и клеим гильзы для сигарет.
Некоторые из старших сестер и братьев матери остались в России, там вышли замуж и женились. Мы никогда о них ничего не слышали. Вероятно, они погибли во время русской революции.
Родители отца и их предки родом из Бранденбургской марки.[7] Дед подвизался по слесарной части. В семье родилось трое сыновей и одна дочь. Обе мои бабушки, кроткие и тихие женщины, посвятили себя семейным заботам. Так что ребенком я росла в чинной бюргерской среде, в которой не чувствовала себя особенно уютно.
Обязательным в то время было обучение девочек из хороших домов игре на фортепиано. Дважды в неделю в течение пяти лет отец возил меня на уроки музыки на Гентинерштрассе к одной и той же учительнице. Признаться, уроки эти не доставляли мне радости, и готовилась я к ним с неохотой, хотя музыку любила так, что позднее, будучи танцовщицей, не пропускала почти ни одного хорошего концерта. С игрой на пианино дела обстояли так же, как и с живописью, — я была одаренной и в том, и в другом, меня даже выбрали для концерта школьников в филармонии, где я с большим успехом сыграла сонату Бетховена. Но к музыке у меня не было такой страсти, как к танцу.
Когда я вспоминаю великолепные концерты в Берлинской филармонии, то перед глазами неизменно встает Ферруччо Бузони,[8] гениальный пианист и композитор. Мне выпало счастье лично знать его. В салоне семейства Баумбах раз в неделю собирались люди искусства, бывал там и Бузони. Однажды он играл что-то очень ритмичное, и я вдруг начала танцевать. После выступления, он подошел, погладил меня по голове и сказал: «Девочка, у вас талант. Когда станете великой танцовщицей, я кое-что сочиню для вас». Присутствующие одобрительно захлопали. Уже через несколько дней я получила конверт с нотами и запиской: «Танцовщице Лени Рифеншталь — от Бузони».
«Вальс-каприз», подаренный маэстро, позже стал одним из самых популярных моих номеров.
Юношеские переживания
До двадцати одного года, а именно столько я прожила с родителями, мне запрещалось встречаться с молодыми людьми. Посещать кино без матери или отца тоже не полагалось. Нынешней молодежи в это даже трудно поверить.
На Троицу мама нарядила меня в самое красивое платье, которое сшила сама, но у отца вместо радости это вызвало только раздражение. Если на меня иногда оглядывались мужчины, это приводило его в бешенство. Он весь багровел и кричал: «Опусти глаза, не пялься так!» Упрек был несправедлив. Я и не думала «пялиться». «Не нервничай, отец, — успокаивала его мать. — Лени совсем не смотрит на мужчин!»