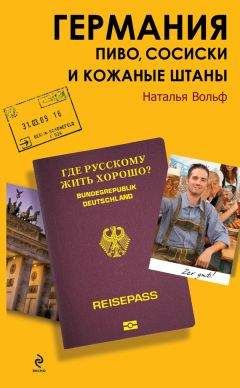Григорий Амелин - Миры и столкновенья Осипа Мандельштама
Первая скрипка в развитии этой темы – Андрей Белый:
“И слово ветра становилось пурговой плотью.
Мелькали прохожие, конки, пролетки, как тени столкнувшихся диких метелей.
Единый вставал лик, метельный, желанный, – стенал, улыбался, склонялся.
Опять. И опять.
Манил все той же тайной”.
И уже совершенно пастернаковским словарем оформляет тему К.Бальмонт: “Мы кружимся и ищем. Мы кружимся и не находим. Мы загораемся и гаснем. И снова мы кружимся. Опять мы как волны”.
Второе слово, совершенно необходимое для понимания стихотворения и держащее своей языковой и метаязыковой формой всю структуру “Посвященья”, – Post. Это двор Почтамта. В автобиографическом очерке “Люди и положения”: “Когда мне было три года, переехали на казенную квартиру при доме Училища живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой против Почтамта. Квартира помещалась во флигеле внутри двора, вне главного здания” (IV, 297). Топографический слом обозначен уже здесь, поскольку это двор Училища, а не Почтамта, но в описании он уже оказывается ближе к Почтамту, чем к будущему ВХУТЕМАСу. Во “Дворе” же реальное топографическое пространство Москвы полностью преобразуется в символический пейзаж, явление “внутреннего мира”. Важный шаг в таком преобразовании – дореволюционная зимовка Пастернака “в Тихих Горах на Каме, на химических заводах Ушаковых”: “В конторе заводов я вел некоторое время военный стол и освобождал целые волости военнообязанных, прикрепленных к заводам и работавших на оборону. Зимой заводы сообщались с внешним миром допотопным способом. Почту возили из Казани, расположенной в двухстах пятидесяти верстах, как во времена “ Капитанской дочки” , на тройках. Я один раз проделал этот зимний путь” (IV, 329). Не менее Пушкина, здесь важен Гете: “Я привык жить на дорогах и, как почтальон, странствовал между равниной и горной местностью. Частенько один или в компании я бродил по родному городу, словно он был мне незнаком, обедал в одном из больших постоялых дворов у проезжей дороги и потом продолжал свой путь. Душа моя больше чем когда-либо была открыта миру и природе” (Ich gew? hnte mich, auf der Stra? e zu leben und wie ein Bote zwischen dem Gebirg und dem flachen Lande hin und her zu wandern. Oft ging ich allein oder in Gesellschaft durch meine Vaterstadt, als wenn sie mich nichts anginge, speiste in einem der gro? en Gasth? fe in der Fahrgasse und zog nach Tische meines Wegs weiter fort. Mehr als jemals war ich gegen offene Welt und freie Natur gerichtet).
Пастернак согласился бы с Николаем Гумилевым, полагавшим, что художественное произведение должно быть “слепком прекрасного человеческого тела”. Положение в названии автобиографического очерка от франц. posture – “положение тела, позитура”. “Под жестом, – писал Гумилев, – я подразумеваю такую расстановку слов, подбор гласных и согласных звуков, ускорений и замедлений ритма, что читающий стихотворение невольно становится в позу его героя, перенимает его мимику и телодвижения и, благодаря внушению своего тела, испытывает то же, что сам поэт, так что мысль изреченная становится уже не ложью, а правдой”. Франц. post – “почта; почтовый двор; почтамт; почтовая езда, езда на почтовых” (по Словарю Макарова). Очевидно, что пастернаковское почтмейстерство одновременно включает все эти значения. Двор почтамта помечен знаками такого положения: “нарыв” – итал. postem, а “следы”, “шрамы” от них итал. posta. Как говорил хлебниковский Чертик: “Я люблю видеть в вещах прообразы” (IV, 220). И мы видим, что вращаемся в кругу разноязыких вещей и состояний (“И все это были подобья”), восходящих к некоему единому первообразу творческого акта.
“Формообразующую тягу” (Мандельштам) всей второй книге Пастернака и, в частности, “Двору” дает третье ключевое слово, входящее в название “Поверх барьеров”, – франц. barriere (“преграда”, “застава”). Оно пронизывает и собирает всю стихотворную ткань “Посвященья”: “с барабанным боем – октября – нафабрен – фабрик – работу – убранств”. Рассуждение Андрея Белого в “Мастерстве Гоголя” вполне соответствует пастернаковской интуиции: “Звукопись – действие раздроба первичного корня ударами ритма; первичный корень – пантомимичен; в “ррр” – звучит мускульное напряжение самого языка ‹…›. Корни “арб”, “бар” поданы индо-европейскими языками, как звуки преодоления препятствия, где р – энергия движения, а п, б – ее связующие оболочки; латинское “лабор” от “раб+бор”; от “раб” – раб-ота, раб, арб-айт (работа по-немецки); от “бор” – ла-бор, борь-ба, хо-робр-ый (храбрый) и т.д. Группы на “бр”, “рб” – одна из наиболее частых аллитераций Гоголя ‹…›; аллитерация и здесь непроизвольно ответствует сюжету”.
Пастернаковская пластическая аллитерация “работы” совпадает с идеей, предельно выраженной Хайдеггером: “Прежде всего именно работа открывает пространство (Raum) ‹…› Весь ход труда оказывается погруженным в событие ландшафта” (Der Gang der Arbeit bleibt in das Geschehen der Landschaft eingesenkt).
Так какую же позицию, какой пост занимает поэт Пастернак, самим именем которого устанавливается этот пост? Каково его место в отношении к людям, страстное обращение к которым занимает чуть не половину стихотворения? Билет объявляет о том, к чему приговорен поэт, – к стуже и тьме. Его отчизна – Север с его ледовитыми ветрами (“И север с детства мой ночлег” – I, 59). “Север” – чересполосная транслитерация всё того же vers. Без такого прочтения нам не понять не только многие конкретные стихи, но и саму суть пастернаковской геопоэтики. Люди, горожане ограждены от холода и тьмы свечами, шубами, фужерами – домашним теплом и уютом. Но не поэт, он не огражден, его место – в департаменте голи, его ханская власть – в нищете. Он – Прометей не огня, но стужи. У Пушкина:
Отдайте мне метель и вьюгу
И зимний долгий мрак ночей.
(III, 38)
Вяч.Иванов как-то язвительно заметил, что диалектика требует прозрачного аттического воздуха и слишком утомительна для “северного ума” (II, 156). По Пастернаку, только на севере она по-настоящему и возможна. В последующих текстах “Поверх барьеров” мы будем сталкиваться с ней буквально на каждом шагу. Так, например, в стихотворении “Мельницы” не фантаст Дон-Кихот будет сражаться с ветряными мельницами житейской косности, а сама мельница как символ поэтического гения, перемалывая благоразумие, будет нести по всему свету фантазии искусства. Помол – дар фантастических вероятий дробимого слова. Дон-Жуан получает отказ и одерживает победу над собой (“Марбург”). Медный всадник превращается в бедного Евгения, Петр Великий – в “скромного и простенького” Романова Николая II, неумело правящего винтом огромного корабля России (“Артиллерист стоит у кормила…”).
Люди содержат поэта, “заказной бандеролью” посылая ему плоды рук своих – “вина, меха, освещенье и кров”. С них взимает зима-баскак дань ханскому нищенству поэта. Поэт платит им пророческим служением и страданием, тем, что дает смысл, содержание жизни. “Книга, – пишет Пастернак в статье “ Несколько положений” , – есть кубический кусок горячей, дымящейся совести – и больше ничего” (IV, 367).
Или словами Анненского:
О, мучительный вопрос!
Наша совесть… Наша совесть…
Мучение Анненского “В дороге” понятно – это стыд русского интеллигента перед нищетой народа. У Пастернака – о природе поэзии, и сама нищета становится совестью благополучия. Поэт – рыцарь бедный поста, жалости и тревоги: “Безумье – доверяться здравому смыслу. Безумье – сомневаться в нем. ‹…› Так мы вплотную подходим к чистой сущности поэзии. Она тревожна…” (I, 370).
Наиболее сурово отношение к носителям “здравого смысла”, “узникам уюта”, горожанам выражено в стихотворении “Сочельник”, безусловно связанном с “Двором” (мы учитываем и переработку 1928 года). Пожалуй, нигде так гневно Пастернак не клеймил самодовольный филистерский дух, как в “Сочельнике”. Но дело не только в филистерстве и романтическом заговоре против него:
Все в крестиках белых, как в Варфоломееву
Ночь – окна и двери. Метель-заговорщица!
Оклеивай окна и двери оклеивай,
Там детство рождественской елью топорщится.
Бушует бульваров безлиственных заговор.
Торжественно. Грозно. Беззвездно. И боязно.
На сборное место, город! За город!
И хлопья мелькают, как лампы у пояса.
Как лампы у пояса. Грозно, торжественно.
Беззвездно и боязно. Ветер разнузданный
Осветит кой-где балаганное шествие –
“Вы узнаны, ветки! Прохожий, ты узнан!”
И взмах лампиона: “Вы узнаны, узники
Уюта!” – и по двери, мелом, крест-накрест
От номера к номеру. Стынущей музыкой
Визгливо: “Вы узнаны, скрипы фиакра!”
Что лагерем стали, что подняты на ноги,
Что в саванах взмыли сувои – сполагоря!
Под праздник отправятся к праотцам правнуки!
Ночь – Варфоломеева! За город! За город!
(I, 458)
Ночь под Рождество сравнивается с кровавой Варфоломеевской. Метель помечает меловыми крестиками, “крест-накрест” окна и двери обывателей. Гибель тому, кто останется в этом узилище уюта. Спасение – в выходе на простор, за город, в открытое пространство, там, где беглецы встанут лагерем. Они – “подонки творенья и метели”, там, где они стали “сполагоря”, – легко и вольно. “Подонки” здесь – в значении “гуща, осадок”, т.е. та же соль земли, которая упоминается и “градирнями” “Двора”. Пастернак сопрягает, по сути, три ночи: варфоломеевскую, рождественскую (календарную) и ночь перед Рождеством самого Иисуса Христа. Заговор метели в узнавании и отборе тех, кто способен идти крестным путем, – от тех, кто останется узниками уюта. Вьюга, “от номера к номеру”, считает окна и двери. В городе – “торжественно. Грозно. Беззвездно. И боязно”. Это не час убийства, а ночь Вифлеемской звезды, истинный путь к ней. Подняты на ноги, отправились в дорогу те правнуки, которые через тысячелетия повторят и познают праотеческую историю. И подняты они, как по тревоге: “За город! За город!”.