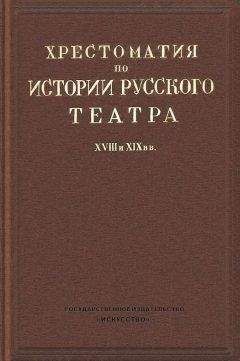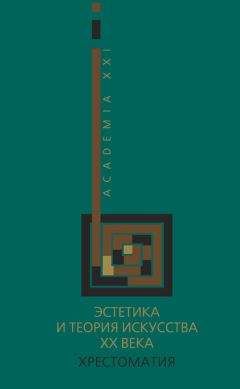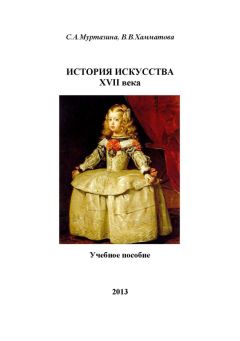Другая история русского искусства - Бобриков Алексей Алексеевич
Есть и еще один любопытный аспект. В общей стилистике, в композиции памятника явно ощущается некая искусственная сочиненность [144], монтажность; скорее механическое, чем пластическое соединение частей (особенно это заметно в профиль) [145]. Возможно, это связано с тем, что классицизм или неоклассицизм противостоит барокко не только сюжетно, но и стилистически. То есть в памятнике заключена и некая художественная мифологема Просвещения — победа программности над естественным, спонтанным порождением образов; торжество стилистической строгости (жесткости, косности, схематичности, регулярности) классицизма над естественной пластичностью, живописностью, подвижностью барокко. Усмирение искусства, подчинение его идеологии — одна из скрытых метафор Медного всадника.
Примерно с 1769 года начинается дидактическое Просвещение для внутреннего употребления: массовое «исправление нравов» за пределами воспитательных училищ посредством журналов, живописи и театра. Журнальная полемика 1769 года между журналом Екатерины «Всякая всячина» и журналами Николая Новикова, Михаила Чулкова, Василия Рубана, Федора Эмина демонстрирует, что Екатерина (оставившая идею реформ, даже если она у нее и была) склонна сводить все существующие проблемы именно к «исправлению нравов» — с помощью доброго примера. «Добросердечный сочинитель <…> хвалит сына отечества, пылающего любовью и верностью к государю и обществу, изображает миролюбивого гражданина <…> Вот славный способ исправлять слабости человеческие» [146].
Первый, самый очевидный аспект внутреннего Просвещения — это собственно правила, предписания, образцы хорошего и плохого поведения, представленные, например, в комедиях Дениса Фонвизина («Бригадир», 1769), а затем и самой Екатерины. Второй аспект, также имеющий значение, — это русский патриотизм, особенно актуальный в контексте начавшейся, очевидно, около 1768 года идеологической войны с Францией. Например, академические программы 1768–1769 годов — это сюжеты из древней русской истории; именно там ищутся примеры для исправления нравов. «Екатерина <…> намечала для этой цели Новикова и готова была помогать ему материалами и деньгами, только бы он нашел в исторических рукописях древние русские добродетели» [147]. Скрытая антифранцузская направленность [148] русских сюжетов никак в живописи не проявляется, но про нее стоит помнить. В 1770 году выходит написанный Екатериной «Антидот», ответ на сочинение аббата Шапп д’Отроша (уже упомянутое в сюжете с Лепренсом), где содержатся, например, такие высказывания о русском народе: «Русский крестьянин во сто раз счастливее и обеспеченнее, чем французские крестьяне» [149]. В контексте этой «народности» становятся понятно, например, появление вполне программных изображений Эриксена: «Портрета Екатерины в шугае и кокошнике» (1769–1772) и «Портрета столетней царскосельской крестьянки с семьей» (1771, ГЭ), своеобразной иллюстрации к «Антидоту»; раз русские крестьяне «во сто раз счастливее и обеспеченнее», то и живут они во сто раз дольше.
Картина Лосенко «Владимир и Рогнеда» (1769, ГРМ), по общему признанию положившая начало русской исторической живописи, была написана им на получение звание академика по возвращении из пенсионерства и показана на первой публичной академической выставке 1770 года.
Внешний сюжет картины (взятый Ломоносовым из «Повести временных лет» для списка академических сюжетов и уже достаточно мифологизированный) — это сватовство новгородского князя Владимира к полоцкой княжне Рогнеде, ее отказ, поход разгневанного Владимира на Полоцк, разорение города, убийство отца и двух братьев, насильственное взятие в жены. Внутренний (и подлинный) сюжет — иной: не исторический, а дидактический. Не кровавое насилие, а извинение и изъяснение в чувствах (по словам самого Лосенко: «видя свою невесту обезчещену и лишившуюся всего, должен был ее ласкать и извиняться перед нею» [150]). Это типичное просветительское искусство добродетели — в духе Дидро и Греза; образец «исправленных нравов» доброго, хорошего Владимира. И одновременно образец ритуального поведения из петровских инструкций для ассамблей и пособий по этикету; «Юности честное зерцало». Будь учтив и галантен. Сделай девушке комплимент. Если был неправ — убил отца и братьев — извинись. Часто цитируемый по этому случаю образец (из «Рассуждения о сценической игре с пояснительными рисунками и некоторыми наблюдениями над драматическим искусством сочинения отца ордена Иисуса Франциска Ланга») требует следующего: «при выражении отвращения надо лицо повернуть в левую сторону и протянуть руки, слегка подняв их, в противоположную сторону, как бы отталкивая ненавистный предмет» [151]. Картина — об этом. Как делать плезир.
Стиль учебного пособия по рисунку и композиции полностью соответствует сюжету из пособия по этикету. Аллегорическая программа составлена из натурщиков — или даже из манекенов с механическими движениями, ничего не выражающими лицами и пустыми оловянными глазами. В качестве нарядов использован завалявшийся театральный реквизит (красные мантии с горностаем, бутафорские шлемы со страусовыми перьями). Понятно, что это программное искусство с дидактическим сюжетом — «арс комбинаторика» (соединение «морали» и «перспективы») и ничего больше.
Но именно такое искусство, очевидно, и необходимо. Патриотический энтузиазм, вызванный картиной на выставке 1770 года, невероятен. «Владимир и Рогнеда» описывается как торжество русского гения. В журнале «Смесь» за 1769 год — еще до выставки — неизвестный автор под псевдонимом С пишет: «стыдитесь, несмысленные почитатели иностранных, смотря на сего художника: никто вам не поверит, что в России не могут родиться великие люди» [152]. Сомневаться в величии Лосенко, «русского Рафаэля», просто невозможно: «такое рассуждение не только что не похвально, но еще некоторым образом изъявляет подлость души» [153]. Здесь, в сущности, нет никакой загадки (даже если не учитывать уже упоминавшийся контекст идеологической борьбы за русские приоритеты): в пространстве «морали» и «перспективы» не существует проблемы «качества искусства». Это общая черта искусства Просвещения — и любого «идейного» искусства вообще (плохой вкус Дидро с его любимцем Грезом предвещает плохой вкус Стасова). Советский Лосенко (герой книги А. Г. Кагановича «Антон Лосенко и русское искусство середины XVIII столетия») почти не отличается от Лосенко 1769 года; здесь тоже главное — усмотрение необходимой «морали» (проект социалистического реализма вообще внутренне близок к программному искусству 1769 года, просто у него другая терминология: идейность, партийность и народность вместо «морали», реализм вместо «перспективы»). Каганович невозмутимо — как современник Тредиаковского и Ломоносова — пишет о герое картины, Владимире: «его душевное богатство — главное достижение художника. Существенно, что Лосенко показывает сложность этого душевного содержания, внутреннюю борьбу, происходящую в своем герое. Столь убедительно еще никому из русских художников не удавалось трактовать образ человека в исторической картине» [154]. Лишь для «эстетов» эпохи Н. Н. Врангеля и А. Н. Бенуа — в частности для С. Р. Эрнста, уже цитировавшегося автора первой биографии Лосенко, — существует проблема стиля и качества. Но настоящий (все понимающий) «эстет» в этой ситуации демонстрирует лишь ироническую снисходительность: «Можно <…> найти своеобразное очарование grand art’a, хотя и весьма провинциального, но поэтому и примечательного» [155]. В самом деле, «чего же еще мы можем требовать от художника, из курной избы попавшего в храм Аполлона на служение высокому искусству, на состязание с „Рафаилами“ и „Буонароттами“?» [156]