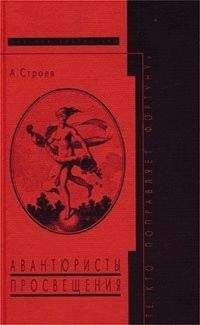Елена Пенская - Русская развлекательная культура Серебряного века. 1908-1918
Использовав внутренние формы слов, он выстроил ряд недоброжелательных информаторов редактора Рудольфа Рафаиловича о романе рассказчика. Среди говорящих фамилий Рюмкин, Плаксин и Парсов. «Плаксин» явно намекает на «Слёзкин».
Внутренняя форма фамилии, по-видимому, остро ощущалась и самим Слёзкиным. Возможно, именно она дала импульс к антонимическому названию его «переводного» романа «Кто смеется последним», изданного в 1925 г. под калькированными именем и фамилией Жорж Деларм.
(Искушение использовать значимую фамилию с диминутивным суффиксом, по-видимому, велико, поскольку недавно фамилия Слёзкина вновь оказалась в иронической обойме: «Первой вещью, в которой Зощенко уже Зощенко, а не какой-нибудь Лейкин, Слёзкин или, скажем, Данилов-Ивушкин, стали «Рассказы Назара Ильича господина Синебрюхова»[208].)
Уже довольно давно литературоведы воспринимают Слёзкина как фигуру комплементарную, по меткому выражению Г.С. Файмана, «на полях исследований о Булгакове». Однако в последнее время неожиданно появилось несколько работ, автор которых настаивает на оригинальности творчества Слёзкина, «жанровом своеобразии новелл», приводя вполне тривиальное объяснение: «Каждая новелла [Слёзкина. – И. Б.] имеет увлекательное начало, стремительное развитие и, как и полагается, неожиданную развязку»; отмечается «простой живой язык» Слёзкина[209] (ср. булгаковское определение его именно неживого языка: «медовая гладкая речь»[210]). Вопреки очевидности говорится: «В своих новеллах Слёзкин пишет об обыкновенных людях, ничем не примечательных, которые попадают в необычные, порой анекдотические жизненные ситуации»[211]. Однако трудно назвать ничем не примечательными персонажами роковую женщину Беатриче («Беатриче кота Брамбиллы»); мгновенно приковывающую к себе внимание главную героиню рассказа «Девушка из “Трокадеро”»; рыжеволосую то ли ведьму, то ли оборотня («То, чего мы не узнаем»); девушку Лилю, обладающую иррациональным знанием о мире («Предчувствие»), и многих других.
Между тем в начале творческого пути Юрий Слёзкин действительно претендовал на новаторство в области формы по крайней мере в декларациях. Так, Владимир Боцяновский писал в вечернем выпуске «Биржевых ведомостей» (1916. 18 марта) о первом вечере литературно-художественного общества «Медный всадник»: «Конечно, судили современную литературу и, конечно, критику по преимуществу. Досталось также и писателям. Юрий Слёзкин, выступивший с докладом, очень беглым, не пощадил даже Чехова, даже Глеба Успенского. <…> Молодым свойственна буйственность, и, конечно, этого ей в осуждение никто не поставит. <…> Судя по докладу Слёзкина, новое общество намерено обратить свое главное внимание на форму»[212].
Однако в реальности Слёзкин вполне традиционен: зачины множества его новелл представляют собой ссылки на чей-то рассказ, случай из жизни, чье-либо письмо[213]. Нередко он работает на разогретом предшественниками поле, используя общеизвестные сюжеты – пушкинского «Арапа Петра Великого» с неожиданным рождением чернокожего ребенка в новелле «Негр из летнего сада»; «Бесприданницу» А.Н. Островского (в новелле «Обертас», где пан Гузик оскорбил Януарию – «в Париж предложил ехать»). Его нарративу свойственна высокопарность и слащавость: «В очень короткий срок сердца их забились в унисон и одно и то же слово слетело как со строгих сомкнутых губ Таисии Федоровны, так и с улыбающихся губ Алексея Степановича»[214]. Булгаков справедливо назвал его пейзажи «картонными», приведя пример из романа «Ольга Орг»: «Они остановились на самом краю обрыва, над рекой, теперь скованной льдом. Кругом в белых саванах стояли застывшие деревья бульвара. Высоко в небе жарко тлели звезды. А под ногами хрустел снег»[215]. Пример показательный и типичный для Слёзкина (ср. также: «Густые, как сметана, белые облака сонно плыли над рощею»[216]).
Творчество Слёзкина органично укладывается в традиционное представление о массовой литературе начала XX века. Стоит привести здесь одну из современных ее характеристик, чтобы понять, насколько плотно, без всякой усадки, заполняет дореволюционное творчество Слёзкина все те формы, в которые выливается и в которых застывает массовая литература: «Обязательным элементом большинства подобных повествовательных образцов является социальный критицизм, прямо выраженный или сублимированный до аллегории»[217]. И Слёзкин отдает дань идеологии и социально-критическому пафосу, создавая символические образы России как «русской красавицы», русского народа как нивы, «сизой рати колосьев», и интеллигенции как красивых, но ненужных народу сорняков-васильков, этому народу угрожающих: «Мы несем в себе отраву и губим ею себя и других. Мы – васильки здесь. <…> Недаром народ назвал эти синие мистические глаза васильками – злым духом, отравляющим ниву. Они прекрасны, к ним тянутся детские руки, но они убийственны в своей кажущейся невинности»[218]. В той же ложносимволистской манере он предрекает гибель своему окружению: «Придет русская красавица, нарвет васильков, сплетет синий венок и бросит его в струи прозрачной реки. Это будет их праздник, это будет красиво»[219]. Думается, в этом очевидном совпадении с «прописями» массовой литературы убедительно проявляется, прежде всего, готовность Слёзкина соответствовать ожиданиям самого широкого и нетребовательного читателя.
Так же обстоит дело и с его самым известным романом «Ольга Орг», выдержавшим множество изданий и экранизированным под претенциозным названием «Обожженные крылья» (1915) и с еще более претенциозным подзаголовком «Ищу я души потрясенной, прекрасной». И по жанру, и по писательским стратегиям роман представляет собой традиционную мелодраму. В ней есть место висящему на стене пистолету, который выстреливает трижды, обозначая три самоубийства; подробно описывается богемная (читай: губительная) атмосфера «Бродячей собаки»; есть растянутые, социально-критически окрашенные разглагольствования о жестокости жизни. Дважды – в экспозиции и в заключении романа – повторен процитированный Булгаковым ритмизованный абзац, обнаруживающий все ту же претенциозность: «В этот день, когда к спящей царевне приходит влюбленный принц, когда в полях расцветают голубые ночевеи, чьи очи – очи любимой, где сказывается ее сердце; когда души утопших молятся и плачут о грехе своем, отчего и синеет в эту пору лед и слышен по реке тихий шум, – в этот день два человека <…>»[220].
Можно предположить, что именно удивительная плодовитость Слёзкина мешала критикам замечать у него явные повторы (трудно представить, что они прочитывали все им написанное). Между тем сюжет рассказа «Предчувствие» (мистическое ощущение героини наступающей смерти матери) с измененными именами персонажей инкорпорирован в роман «Ольга Орг»; из произведения в произведение переходят имена с уменьшительно-ласкательными суффиксами, порой одни и те же – Людочка из повести «Секрет полишинеля» рифмуется с Милочкой из романа «Столовая гора»; образы кажутся раз и навсегда закрепленными в сознании автора: если старая женщина, то она – «маленькая сгорбленная старушонка» («Чертовка») или «маленькая сморщенная старушка» («Бабися») и т.п.
А когда в литературе 1910-х годов проявились «обострение колористического видения мира»[221], полутона, игра красок, та самая готовность Слёзкина подхватить общее направление сказалась даже в выборе модных импрессионистических оттенков цвета: «Когда говорят “Антон Павлович Чехов”, мне становится так грустно и хочется плакать. Почему? <…> И почему вместе с грустью на меня наплывают лиловые, дымчато-лиловые осенние сумерки»[222].
Все упомянутые характеристики творчества позволяют включить Юрия Слёзкина в ряд представителей так называемой массовой литературы, хотя термин этот более позднего происхождения. Сам переход от отмеченного Блоком единения с пролетариатом в ранней повести к острым, пряным, мистическим новеллам вполне укладывается в «смену вех» того времени, на что обращали внимание едва ли не все советские исследователи той эпохи: «Традиционному герою русской литературы, чья деятельная любовь к людям неизменно выводила его на пути революционных исканий, беллетристы эпохи реакции противопоставили нового героя, одушевленного, прежде всего, эгоистическим стремлением к самоуслаждению»[223]. Такой герой изображался «в натуралистической манере, со множеством рискованных подробностей, которые вызывали повышенный интерес или острое негодование у читателей, воспитанных на целомудренных описаниях любовных сцен, утвержденных традициями классического реализма»[224]. Приведенное утверждение относится главным образом к роману М. Арцыбашева «Санин», однако вполне актуально и для таких писателей, как А. Каменский, Г. Чулков, С. Ауслендер и др.