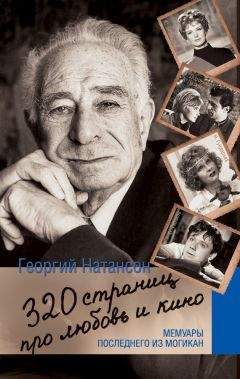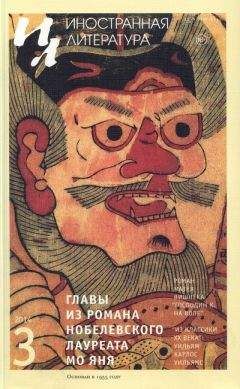С. ФРЕЙЛИХ - ТЕОРИЯ КИНО: ОТ ЭЙЗЕНШТЕЙНА ДО ТАРКОВСКОГО
Об искусстве монтажа в «Чапаеве» мы судим по сцене отражения «психической атаки». Тишина, разорванная дробью Анкиного пулемета, а потом появление на коне самого Чапаева - эти кульминации поднимают действие до трагического пафоса. Точно найденное сопоставление элементов боя, данное в нарастании, заставляет нас самих пережить все перипетии, стать участниками событий.
По мастерству эта сцена стоит рядом со знаменитой сценой на Одесской лестнице в «Броненосце «Потемкин» Эйзенштейна. Тут традиции очевидны, но Васильевы дали и новое: они подчинили монтаж искусству актера. В сознании зрителей имя Бориса Андреевича Бабочкина настолько слилось с именем его героя, что это затруднило дальнейшую жизнь актера. Перед нами парадокс идентификации на экране: внешность артиста Бабочкина и реального героя далеко не совпадали, но знакомые Чапаева и даже сын героя говорили, что они похожи.
Васильевы долго бились над формой своего произведения (черновики сценария и куски, не вошедшие в фильм, говорят об этом) и, в конце концов, нашли стиль, выражающий жизнь человека, которого звали Василий Иванович Чапаев.
Приведем пример поисков Васильевыми стиля картины.
По первоначальному замыслу Чапаев погибал в бурной реке: ее огромные волны перекатывались, в черном небе сверкали молнии [1]. Получалось, что Чапаева погубила стихия, и потому в дальнейшем Васильевы отказались от такого решения. В картине мы видим другое: раненый Чапаев, теряя силы, плывет по спокойной глади, круг фонтанчиков от пуль сужается вокруг него. Тишина оказалась драматичнее бури.
Это «снижение» материала можно проследить и в музыке, и в диалоге, и в игре актера, и в общем развитии действия.
Перед боем Чапаев на коне, с косогора наблюдает за предстоящим полем битвы. Нижний ракурс и бурка, ниспадающая крупными складками, придают герою монументальность, - он возвышен над временем и пространством, над людьми, над обстоятельствами, которым он, полководец, должен будет сейчас навязать свою волю.
Бой закончен, и мы видим Чапаева в избе: на столе самовар, и Чапаев из блюдца, по-крестьянски пьет чай.
«Чапаев», развивая традиции «Потемкина», уберегся от напыщенности и риторики - их не избежал и сам Эйзенштейн, в частности в картине «Старое и новое», в картине выдающейся: она была дерзкой попыткой создать эпос на современном материале.
В «Старом и новом» есть эпизод, в котором два брата, расходясь, после смерти отца, делят надвое доставшееся им по наследству имущество. При этом избу они разбирали не по венцам, а просто распиливали ее пополам.
[1] Эскиз первого варианта постановочного решения сцены гибели Чапаева опубликован Д. Писаревским в сборнике «Вопросы киноискусства» (М.: Изд-во АН СССР, 1956.- С. 95).
«Почти все зрители картины, - пишет сам Эйзенштейн, - отнеслись к этой сцене крайне неодобрительно.
Ругались за «натянутый символ», за «неудачную метафору», за «нереалистическую ситуацию».
А между тем в основе эпизода лежит факт.
И даже факт не единичный и случайный, а факт типический»[1].
Эпизод распиливания избы в «Старом и новом» Эйзенштейн сопоставляет с эпизодом расстрела под брезентом в «Потемкине».
Первый факт имел место в жизни, но на экране в него не поверили.
Второй вымышлен (если уж и использовали в такой ситуации брезент, то подстилали его под ноги, чтобы кровью не залить палубу, здесь же брезентом накрывали), однако зрителей он захватывает.
Это произошло потому, что в первом случае художник не сумел переключить зрителя из области рассуждений в область переживаний. В «Потемкине» же эмоциональное напряжение сцены моряков, ожидающих под брезентом расстрела, поглощает ее бытовую несостоятельность.
Эйзенштейн считает, что не достиг нужного внутреннего напряжения в сцене распиливания дома потому, что ошибочно дал эту сцену в начале картины, в ее экспозиции, в то время как сцена под брезентом оказалась в «Потемкине» в районе кульминации.
Однако дело здесь не только в том, где оказалась сцена. Окажись сцена с домом и в кульминации, вряд ли бы что-нибудь изменилось, о чем свидетельствует находящаяся в кульминации сцена с пуском сепаратора, которая интересна изобразительно, но также лишена внутреннего драматизма, а потому не волнует.
Эпизод строился на ожидании вокруг сепаратора: «загустеет - не загустеет» молоко? Сепаратор решал судьбу артели, организуемой беднячкой Марфой Лапкиной и ее единомышленниками. Брызнул поток сливок - взрыв восторга, люди записываются в артель.
' Рукопись хранится в ЦГАЛИ, ф. 1923, оп. 2.
Режиссер потом признавался, что хотел здесь «одними средствами выразительности и композиции сделать из факта появления первой капли загустевшего молока такую же захватывающую и волнующую сцену, как эпизод встречи «Потемкина» с адмиральской эскадрой, - ожидание этой первой капли построить на таком же напряжении, как ожидание, будет ли или не будет выстрела из жерл орудий эскадры…».
Однако предмет изображения не соединил, как в «Потемкине», зрителя и художника, они оказались в разном отношении к предмету. Бытовой материал художник передал средствами патетического произведения. Форма и содержание оказались в противоречии.
Следует сказать, что в других эпизодах картины «Старое и новое» аналогичное намерение вполне удалось: так, например, незабываемо в картине изображение крестного хода, когда люди в неистовстве религиозного экстаза, сгибаясь под тяжестью икон и зарываясь в пыль, взывают к небесам о ниспослании дождя, - здесь драматическое содержание эпизода требовало экстатической композиции, и Эйзенштейн ее блестяще применил.
В сцене с сепаратором она оказалась неорганичной, о чем режиссер писал в статье «Еще раз о строении вещей».
В этой работе Эйзенштейн достраивает свою теорию пафоса.
Пафос может быть выражен различно.
Фильм «Потемкин» - пример прямого выражения пафоса, в его структуре соблюдено условие «выхода из себя» и перехода в новое качество. Композиция как бы вторила определенному поведению человека. Речь шла о глазах, на которых проступали слезы, о молчании, разразившемся криком, о неподвижности, перебрасывающейся в рукоплескание, о прозаической речи, неожиданно переходящей в строй поэзии.
Теперь Эйзенштейн пишет и о другом выражении пафоса:
«Если, например, решено, что определенный момент роли должен решаться на исступленном крике, то можно с уверенностью сказать, что так же сильно будет действовать в этом месте еле слышный шепот. Если ярость решается на максимальном движении, то не менее впечатляющей будет полная «окаменелая» неподвижность.
Если силен Лир в бурю, окружающую его безумие, то не менее сильно будет действовать и прямо противоположное решение - безумие в окружении полного покоя «равнодушной природы».
Именно «Чапаев», по мнению Эйзенштейна, открыл новые принципы патетической композиции.
«Чапаев» выстроен по принципу, противоположному «Потемкину». То, о чем принято было говорить строем гимна, приподнятой речью, стихом, было сказано в «Чапаеве» простой разговорной речью.
Ключевой для «Чапаева» Эйзенштейн считает сцену, в которой герой дает урок тактики, объясняя, где должен быть командир. Именно здесь выявляется, что «в известных условиях строй пафоса должен мчаться не с шашкой наголо впереди», а «размещаться позади», то есть идти не через противоположность, раскрытую в «Потемкине», а путем «обратной противоположности».
Разговорная сцена за столом и динамическая сцена атаки находятся в глубокой связи. В сопоставлении этих сцен раскрывается смысл картины, ее философия.
Действие, которое мы видим между этими двумя сценами, есть одновременно история характера Чапаева.
Васильевы открыли героический характер в крестьянине, прежде униженном нуждой.
Чапаев - положительная натура, но не идеальная, и в этом секрет жизненности картины.
Выступая против механического перенесения из живописи в литературу принципа изображения героя - носителя положительного идеала, Лессинг писал: «Идеальный моральный характер может поэтому играть не более как второстепенную роль в этих действиях. Если же поэт, к несчастью, предназначил ему главную роль, то отрицательный характер, более энергично проявляющийся в действии, нежели идеальному характеру позволяют свойственные ему душевное равновесие и твердые принципы, всегда будет заслонять последний. Этим объясняется упрек, который часто делали Мильтону, порицая его за то, что его героем является Сатана. Упрек этот вызывало не то, что поэт придал Сатане чрезмерное величие, что он представил его слишком сильным и отважным, - ошибка здесь кроется глубже. Дело в том, что всемогущему не нужны те усилия, которые приходится прилагать для достижения своих намерений Сатане, и он остается спокойным перед лицом самых яростных действий и предприятий своего врага. Но хотя это спокойствие и соответствует представлению о божественном величии, оно отнюдь не поэтично»[1].