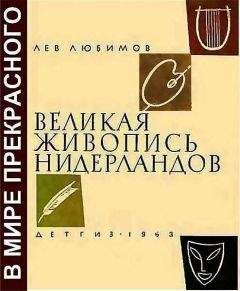Готхольд Лессинг - Лаокоон, или О границах живописи и поэзии
Каким образом достигаем мы ясного представления о какой-либо вещи, существующей в пространстве? Сначала мы рассматриваем порознь ее части, потом связь этих частей и, наконец, целое. Чувства наши совершают эти различные операции с такой удивительной быстротой, что операции эти сливаются для нас как бы в одну, и эта быстрота безусловно необходима для того, чтобы мы могли составить себе понятие о целом, которое есть не что иное, как результат представления об отдельных частях и их взаимной связи. Допустим, что поэт может в самом стройном порядке вести нас от одной части к другой; допустим, что он сумеет с предельной ясностью показать нам связь этих частей, – сколько же времени потребуется ему? То, что глаз охватывал сразу, поэт должен показывать нам медленно, по частям, и нередко случается так, что при восприятии последней части мы уже совершенно забываем о первой. А между тем лишь по этим частям мы должны составлять себе представление о целом. Для глаза рассматриваемые части остаются постоянно на виду, и он может не раз обозревать их снова и снова; для слуха же раз прослушанное уже исчезает, если только не сохранится в памяти. Но допустим, что прослушанное удержалось в памяти полностью. Какой труд, какое напряжение нужны для того, чтобы снова вызвать в воображении в прежнем порядке все слуховые впечатления, перечувствовать их, хотя бы и не так быстро, как раньше, и, наконец, добиться приблизительного представления о целом?
Пусть попробует это сделать всякий на следующем примере, который может считаться в своем роде образцовым:
Высоко вознеслась головка энциана:
Он чернью полевой в своем величье чтим;
Под знамя он собрал все цветики поляны,
Сам братец голубой склонился перед ним.
И золото цветов, как струйки, искривленных,
Венчает стебелек, что в серое одет.
А листьев белизна вся в лучиках зеленых,
В ней – пестрой молнии, алмазов влажных свет.
Благой закон, чтоб мощь и прелесть вместе зрели:
Прекрасная душа живет в прекрасном теле.
Вот травка стелется, подобна дымке мглистой;
Природа все листки сложила ей крестом.
Как птичка тот цветок: она – из аметиста.
Два клювика торчат в сиянье золотом.
Вот листик зубчатый, покрытый ярким глянцем,
Бросает на родник зеленый отсвет свой,
И нежный снег цветов под матовым румянцем
Очерчен белою, лучистою звездой.
Здесь розы по степи лежат и изумруды,
И в пурпур облеклись седых утесов груды103.
Здесь мы видим и травы и цветы, которые ученый поэт изобразил очень старательно и, очевидно, с натуры, но изобразил без всякого очарования. Я не хочу этим сказать, что тот, кто не видел прежде этих трав и цветов, не мог бы по этому описанию составить себе о них никакого понятия. Очень может быть, что всякая поэтическая картина требует от читателя предварительного знакомства с описываемыми предметами. Я не стану также отрицать, что знакомые с этими травами и цветами не получат – благодаря приведенной картине – более живого представления о какой-нибудь стороне этих трав и цветов. Но что сказать о целом? Если оно должно давать живую картину, то ни одна часть его не должна выступать вперед, и освещение должно быть распределено равномерно по всем частям; воображение наше должно с одинаковой скоростью обежать их все, чтобы соединить, наконец, в одно целое то, что в природе обозревается одним разом. Но наблюдается ли это здесь? А если нет, то можно ли сказать про эту картину, что совершенно подобное ей изображение живописца показалось бы бледным и туманным в сравнении с этой поэтической картиной?104 Нет, она остается бесконечно ниже того, что можно было бы дать на полотне при помощи линий и красок, и критик, так высоко ее оценивший, рассматривал ее, конечно, с совершенно ложной позиции. Вероятно, он более заметил посторонние украшения, внесенные сюда поэтом: возвышенную точку зрения его на растительную жизнь, на воплощение в растениях внутреннего совершенства, для которого внешняя красота служит лишь оболочкой, и т. д. А между тем именно на этой внешней красоте и должен был он остановиться. Она здесь – главная цель. Действительно, о чем может быть речь при сравнении произведений живописца и поэта, как не о степени живости и сходства изображений. Но тот, кто утверждает, что строки:
И золото цветов, как струйки, искривленных,
Венчает стебелек, что в серое одет...
и т. д. по производимому ими впечатлению могут соперничать с живописным изображением, например, Ван-Хюйсума, должно быть, никогда не прислушивался к своим чувствам или намеренно забывал о них. Эти строки могут быть прочтены с большим успехом, когда держишь в руках описываемый цветок; сами же по себе они не производят никакого или очень слабое впечатление. В каждом слове чувствую я труд поэта, но самой вещи не вижу совсем.
Повторяю еще раз: я нисколько не отрицаю за речью вообще способности изображать какое-либо материальное целое по частям; речь имеет к тому возможности, ибо, хотя речевые знаки и могут располагаться лишь во временной последовательности, они являются, однако, знаками произвольными; но я отрицаю эту способность за речью как за средством поэзии, ибо всякое изображение материальных предметов при помощи слова нарушает то очарование, создание которого и составляет одну из главных задач поэзии.
Это очарование, повторяю, нарушается тем, что сопоставление тел в пространстве сталкивается здесь с последовательностью речи во времени. Правда, соединение пространственных отношений с последовательно-временными облегчает нам разложение целого на его составные части, но окончательное восстановление из частей целого становится несравненно более трудной и часто даже невыполнимой задачей.
Вообще описания материальных предметов могут быть уместны там, где нет и речи о поэтической иллюзии, где писатель обращается лишь к рассудку читателей и имеет дело лишь с ясными и по возможности полными понятиями. Ими может пользоваться с большим успехом не только прозаик, но и поэт-догматик, ибо там, где он занимается догматикой, он уже не поэт.
Вергилий в своих «Георгиках» так изображает, например, корову, годную для приплода:
Отменна коровы
Дикая стать, с головой безобразной, с могучей выей,
Если до самых колен из-под морды подгрудок
свисает.
Меры не знают бока; в ней все огромно: и ноги,
И подле гнутых рогов большие шершавые уши,
Очень мне по душе и пятнистая с белой звездою,
Или та, что ярму упрямым противится рогом,
Схожая мордой с волом, и та крутобокой породы,
Что хвостом на ходу следы на земле заметает.
Так же изображает Вергилий и красивого жеребенка:
С головой красивой,
С шеей крутой, с животом коротким и крупом
тяжелым;
Мышцами крепкая грудь кичится105.
Кто не видит, что поэт заботится здесь больше об изображении частностей, чем о целостном впечатлении? Он хочет перечислить нам признаки хорошего жеребенка или хорошей коровы для того, чтобы дать возможность самим судить о достоинстве этих животных, если бы пришлось делать выбор; но ему нет дела до того, сочетаются ли эти признаки в живой образ или нет.
Все остальные случаи описания материальных предметов (если только не употреблен указанный выше прием Гомера, при помощи которого сосуществующее превращается в последовательно образующееся), по мнению лучших знатоков всех времен, являются пустой забавой, для чего совсем не нужно таланта или требуется талант очень незначительный. «Когда плохой поэт, – говорит Гораций, – не в силах ничего сделать, он начинает описывать рощи, жертвенник, ручей, вьющийся по прекрасным лугам, шумящий поток, радугу:
Алтарь Дианы и рощу.
Или теченье реки торопливой по нивам прелестным,
Или ниже Рейна струи и радугу живописует»106.
В пору своей зрелости Поп весьма презрительно смотрел на описательные опыты своей поэтической юности. Он высказывал тогда требования, чтобы тот, кто хочет с полным правом носить имя поэта, отказался как можно скорее от стремления к описаниям, и сравнивал стихотворения, не заключающие в себе ничего, кроме описаний, с обедом, приготовленным из одних соусов107. Что касается Клейста, я могу поручиться, что он очень мало гордился своей «Весной». Он придал бы ей, конечно, совсем другую форму, если бы прожил дольше. Он уже думал о том, чтобы внести в это стихотворение строгий план, и подыскивал средства, чтобы заставить это множество образов, вырванных, по-видимому, наудачу из пространного изображения обновленной природы, наполниться жизнью и пройти перед глазами читателя в их естественном порядке. И, конечно, он сделал бы то же самое, что Мармонтель (несомненно, по поводу эклог) советует многим немецким поэтам: из ряда образов, лишь кое-где перемежающихся с чувствованиями, сделать ряд чувствований, лишь изредка перемежающихся с образами108.