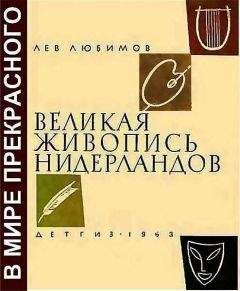Готхольд Лессинг - Лаокоон, или О границах живописи и поэзии
А как поступает Гомер, когда нужно, чтобы об этом скипетре, который здесь просто именуется отцовским бессмертным скипетром, так же как подобный скипетр в другом месте называется только скипетром, обитым золотыми гвоздями, – когда нужно, повторяю, дать об этом знаменитом скипетре более полное и более ясное представление? Изображает ли он нам, кроме золотых гвоздей, также самое дерево или резную головку скипетра? Нет. Он поступил бы так, если бы его описание предназначалось для геральдики, с тем чтобы впоследствии по этому описанию можно было сделать другой, совершенно такой же скипетр. А между тем я уверен, что многие из новейших поэтов дали бы именно такое описание царских атрибутов, в простодушной уверенности, что они действительно сумели создать живописное изображение, если художник может рисовать с их слов. Но какое дело Гомеру до того, насколько он превзошел художника? И вот вместо изображения скипетра он рассказывает нам его историю. Сначала мы видим его в мастерской Вулкана; потом он блестит в руках Юпитера, далее он является знаком достоинства Меркурия; затем он служит начальственным жезлом в руках воинственного Пелопса, пастушеским посохом у миролюбивого Атрея и т. д.
С царственным скиптром в руках, олимпийца
Гефеста созданьем:
Скиптр сей Гефест даровал молньеносному Зевсу
Крониду;
Зевс передал возвестителю Гермесу, Аргоубийце;
Гермес вручил укротителю коней, Пелопсу герою...100
и т. д.
Таким образом я знакомлюсь, наконец, с этим скипетром лучше, нежели если бы поэт положил его перед моими глазами или сам Вулкан вручил бы мне его. Мне нисколько не показалось бы странным, если бы какой-либо из древних толкователей Гомера стал восхищаться этим местом, находя в нем превосходнейшую аллегорию происхождения, развития, утверждения и наследования царской власти у людей. Я бы, конечно, улыбнулся, когда прочел бы, что Вулкан, сделавший скипетр, будучи олицетворением огня, – того, что наиболее необходимо для человеческого существования, – должен вообще означать здесь стремление к удовлетворению необходимых потребностей, которое заставило первых людей подчиниться власти одного человека; что этот первый царь был сыном Времени, почтенным старцем, желавшим разделить свою власть или совсем передать ее некоему красноречивому, умному человеку – Меркурию; что мудрый оратор передал свою власть храбрейшему воину Пелопсу, когда молодому государству угрожали внешние враги: что храбрый военачальник, усмирив врагов и укрепив государство, отдал его в руки сыну, который, как миролюбивый правитель, как благодетельный «пастырь своих народов», дал им благосостояние и изобилие и после смерти своей предоставил возможность богатейшему из своих родственников присвоить – посредством подарков и подкупов – власть, которая прежде давалась лишь как знак особого доверия и считалась скорее обузой, чем достоинством; что, наконец, этот последний утвердил навсегда власть в своем роде, как бы купив себе это право. Я бы, конечно, улыбнулся при таком толковании, но, тем не менее, невольно усилилось бы мое уважение к поэту, у которого так много можно найти.
Но все это находится вне моего плана, ибо я рассматриваю сейчас историю скипетра только как художественный прием, давший поэту возможность остановить наше внимание на одном предмете, не пускаясь в холодное описание его частей. Точно так же, когда Ахилл клянется своим скипетром отомстить за оскорбление, нанесенное ему Агамемноном, Гомер рассказывает нам историю и этого скипетра. Мы видим сначала, как он зеленеет на горах; затем – как железо отделяет его от ствола, срезает листья и кору и делает его пригодным для того, чтобы служить вождям народа в качестве знака их божественного достоинства.
Скипетром сим я клянуся, который ни листьев,
ни ветвей
Вновь не испустит, однажды оставив свой корень
на холмах;
Вновь не прозябнет: на нем изощренная медь
обнажила
Листья, кору...101
и т. д.
В этих двух описаниях Гомер, конечно, не имел в виду изобразить два жезла, различных по материалу и по форме, но он воспользовался превосходным случаем дать наглядное представление о различии властей, символом которых эти жезлы были. Один – работы Вулкана, другой – срезанный в горах неизвестной рукой; один – древнее достояние благородного рода, другой – сделанный для первого встречного; один – простираемый монархом над многими островами и целым Аргосом, другой – принадлежащий одному из греков, человеку, которому вместе со многими вверена охрана закона. Таково было и в действительности расстояние, отделявшее Агамемнона от Ахилла, расстояние, наличие которого не мог не признать даже и сам Ахилл, как ни был он ослеплен гневом.
Но не только там, где Гомер связывает со своими описаниями предметов особые намерения, но даже и в тех случаях, где дело идет просто об известной картине, он искусно развивает эту картину при помощи какого-нибудь повествования, и, таким образом, части определенного предмета, которые мы привыкли видеть в действительности соединенными вместе, одна подле другой, столь же естественно в его рассказе представляются нашему воображению последовательно одна за другой, и картина слагается по мере рассказа. Так, например, он хочет изобразить нам лук Пандара: лук из рога, определенной величины, гладко отполированный и покрытый с обоих концов золотом. Что же делает он? Перечисляет ли он свойства лука одно за другим? Нисколько: так можно дать понятие о луке, показать его, но не изобразить. Гомер начинает с охоты за серной, из рогов которой сделан лук. Пандар подстерег ее в скалах и убил; рога ее были необыкновенной величины, и поэтому он предназначил их для лука; далее мы видим их уже в отделке: художник соединяет их, полирует, обивает. И таким путем, как уже сказано выше, поэт показывает нам постепенное образование того, что у живописца мы могли бы увидеть лишь в готовом виде:
Лук обнажил он лоснистый, рога быстроскачущей
серны
Дикой, которую некогда сам он под сердце уметил,
С камня готовую прянуть: ее ожидавший в засаде,
В грудь он стрелой угодил и хребтом опрокинул
на камень.
Роги ее от главы на шестнадцать ладоней вздымались.
Их, обработав искусно, сплотил рогодел знаменитый,
Вылощил ярко весь лук и покрыл его златом
поверхность102.
Но я бы никогда не кончил, если бы вздумал выписывать все примеры этого рода. Всякому, кто хорошо знаком с Гомером, они сами придут в голову.
XVII
Но, возразят мне, обозначениями, употребляемыми в поэзии, можно пользоваться не только во временной последовательности, но и произвольно, благодаря чему представляется возможность изображать предметы и со стороны их положения в пространстве. У самого Гомера встречаются примеры этого рода, и его описание щита Ахилла может служить самым поразительным доказательством того, как подробно и в то же время поэтично можно изобразить все части какой-нибудь вещи в том именно виде, в каком они встречаются в действительности, то есть в их сочетании в пространстве.
Постараюсь ответить на это двойное возражение. Я называю его двойным потому, что, во-первых, логический вывод имеет значимость даже и без примера, а во-вторых, потому, что пример из Гомера представляет для меня значительную важность, хотя бы он и не был подкреплен выводом.
Действительно, так как словесные обозначения – обозначения произвольные, то мы можем посредством их перечислить последовательно все части какого-либо предмета, которые в действительности предстают перед нами в пространстве. Но такое свойство есть только одно из свойств, принадлежащих вообще речи и употребляемым ею обозначениям, из чего еще не следует, чтобы оно было особенно пригодным для нужд поэзии. Поэт заботится не только о том, чтобы быть понятным, изображения его должны быть не только ясны и отчетливы – этим удовлетворяется и прозаик. Поэт хочет сделать идеи, которые он возбуждает в нас, настолько живыми, чтобы мы воображали, будто получаем действительно чувственное представление об изображаемых предметах, и в то же время совершенно забывали об употребленном для этого средстве – слове. В этом смысле и раскрывали мы выше понятие поэтической картины. Но поэт должен живописать постоянно. Посмотрим же, насколько годятся для поэтического живописания тела в их пространственных соотношениях.
Каким образом достигаем мы ясного представления о какой-либо вещи, существующей в пространстве? Сначала мы рассматриваем порознь ее части, потом связь этих частей и, наконец, целое. Чувства наши совершают эти различные операции с такой удивительной быстротой, что операции эти сливаются для нас как бы в одну, и эта быстрота безусловно необходима для того, чтобы мы могли составить себе понятие о целом, которое есть не что иное, как результат представления об отдельных частях и их взаимной связи. Допустим, что поэт может в самом стройном порядке вести нас от одной части к другой; допустим, что он сумеет с предельной ясностью показать нам связь этих частей, – сколько же времени потребуется ему? То, что глаз охватывал сразу, поэт должен показывать нам медленно, по частям, и нередко случается так, что при восприятии последней части мы уже совершенно забываем о первой. А между тем лишь по этим частям мы должны составлять себе представление о целом. Для глаза рассматриваемые части остаются постоянно на виду, и он может не раз обозревать их снова и снова; для слуха же раз прослушанное уже исчезает, если только не сохранится в памяти. Но допустим, что прослушанное удержалось в памяти полностью. Какой труд, какое напряжение нужны для того, чтобы снова вызвать в воображении в прежнем порядке все слуховые впечатления, перечувствовать их, хотя бы и не так быстро, как раньше, и, наконец, добиться приблизительного представления о целом?