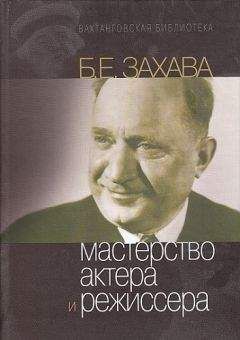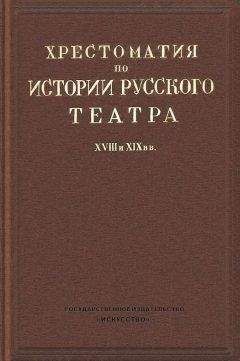Андрей Якубовский - Профессия: театральный критик
Не становился ли миф на этот раз всего лишь одним из острых средств выражения, выгодной основой для создания высокопрофессиональной и впечатляющей сценической композиции или, как в свое время остроумно заметил К. Леви-Стросс, "машиной для уничтожения времени"? Во всяком случае, ни один из спектаклей, показанных в Москве режиссером из Японии, в большей или меньшей степени обязанный своей структурой ритуалу, в большей или меньшей степени созвучный мифу и использующий мифологическую поэзию, до метафизических проблем и экзистенциальных вопросов бытия человека и человечества не поднимался. Скорее уж миф и ритуал становились здесь средством упорядочения сложной и чреватой неясностями реальности, служили гармонизации искусства, нежели познания реалий жизни.
Итак, что бы это ни было — "игра" в театр, "чистое искусство" или "миф" вкупе с "ритуальностью", — можно предположить, что новейший мировой театр входит в пору "новых театральных технологий", очевидно успокаивается и утрачивает способность к эмоциональному взрыву, а вместе с этим — способность потрясать зрителя. Удивлять, завораживать, восхищать — да, на это он все еще способен. Но потрясать — нет.
Память об истории, об Освенциме и Хиросиме, перед лицом которых творцы театральных форм прежде хотя бы изредка испытывали чувство неловкости, выветрилась, заместилась иными, куда более понятными профессиональными заботами. Кто вспоминает сегодня 1968 год? Кто готов повторить вместе с Николаем Бердяевым слова о том, что "история не удалась"? Кто готов присоединиться к тревожному ощущению Хайнера Мюллера "краха цивилизации"?
Быть может, именно поэтому сегодня так парадоксально изменилось восприятие драматургии последнего — она была "апокалиптической", а сегодня кажется "игровой" в первую голову (именно эти перемены проявились в ходе многодневных собеседований, устроенных парижской Академией экспериментального театра в Театре на Сретенке и посвященных, в частности, немецкому драматургу). Быть может, по той же причине московской публике было так трудно настроиться на публицистическую волну спектакля "Исход" Пиппо Дельбоно, решенного в приемах политического кабаре. Ожидали, по аналогии с иными спектаклями Олимпиады, чего-нибудь любопытного, увлекательного, в высшей степени профессионального, а получили грубый натурализм, почти гиньоль — "театр ужаса", навеянный трагическими событиями в разных частях планеты — от Ближнего Востока до Балкан. Неувязочка...
Вот чеховская "Чайка" в постановке Люка Бонди— другое дело. Не откажусь от удовольствия процитировать суждение критика, куда более красноречивого: "Это качественный европейский театр, рассчитанный на рафинированных интеллектуалов, в равной степени чурающихся всего пошлого и всего радикального".
И в самом деле, спектакль, привезенный "Бургтеатром", для нашего времени едва ли не эталонный. В высшей степени добротный и профессиональный. Предоставивший в главных ролях лучших немецкоязычных актеров (Аркадина — Ютта Лампе, Тригорин — Герт Фосс) и ярко одаренную молодежь (Треплев — Август Диль, Заречная — Йоханна Вокалек). Тщательно и тонко проработанный во всех психологических деталях и бытовых подробностях. Смелый и неожиданный в решении отдельных линий и эпизодов (взять хотя бы сугубо "декадентскую" и очень смешную постановку пьесы Треплева, подсвеченное откровенной иронией зарождение "особых отношений" между Ниной и Тригориным, гимнастические экзерсисы Аркадиной в начале второго акта и многое-многое другое). Однако как разорван, как фрагментарен общий рисунок спектакля, сводящий его к россыпи блестящих режиссерских предложений и талантливых актерских ответов на них. Как ощутимо не хватает ему глубинной разработки характеров и создания единого потока жизни, который увлекал бы всех персонажей и распоряжался бы их судьбами. Именно поэтому спектакль лишен подлинно трагических интонаций, а кульминационный четвертый акт вряд ли можно признать удачным.
Перед нами, по существу, все та же театральная модель, в которой превыше всего ценится профессионализм, живая реальность подчинена задаче создания поэтического мира в той мере и степени, чтобы убрать "все пошлое" и "все радикальное", снять чересчур актуальные темы, все сколько-нибудь острые экзистенциальные вопросы (правильно отмечено: понять, о чем поставил свой спектакль Бонди, не представляется возможным). Наконец, этот театр осуществляет себя в той или иной мере и степени прежде всего как определенный ритуал зрелища, как "игра в театр", как "игра со зрителем".
Выскажем предположение о том, что лежит в основе подобной и, как мы видим, весьма распространенной театральной модели.
Более десяти лет назад американский профессор Френсис Фукуяма опубликовал нашумевшую статью "Конец истории?", в финале которой не без грусти заметил: на смену "готовности рисковать жизнью ради чисто абстрактной цели", на смену "отваге, воображению и идеализму" приходят экономика, техника, "удовлетворение изощренных запросов потребителя". Он добавил: "в постисторический период" вряд ли найдется место "искусству"... За полвека до Фукуямы с аналогичными размышлениями выступил русский философ Николай Бердяев. В своей статье "О духе буржуазности" (1926) он писал об "устроении жизни и благополучии жизни" как главной, если не единственной, цели буржуазии — класса, которому принадлежит будущее. Собственно говоря, Бердяев о классе не говорил, все больше— о "состоянии духа", порабощенного мирскими заботами и пораженного неверием в чудо (в том числе, надо полагать, в чудо искусства), неспособного прорваться к вечным проблемам и на потребу себе приручившего поэзию (надо думать, и поэзию театрального творчества).
Нет, театр вовсе не устал, как это прежде казалось. Он цветет пышным и ярким цветом, что доказывает и Олимпиада, он плодоносит и разрастается. Но плодоносит и разрастается он в условиях, когда превыше всего ценятся удобство и комфорт, а потому сам становится частью этого комфорта. "Рафинированные интеллектуалы, чурающиеся пошлого и радикального" — это и есть буржуа-потребители, изощренные запросы которых пытаются удовлетворить и Сузуки, и Уилсон, и Хеббельс, и Барба, и Ронкони, и многие, многие иные талантливые мастера, чье творчество было представлено на Олимпиаде.
Кстати, на эту же мысль наводит прелюбопытное обстоятельство: цены на билеты. Если устроители Олимпиады устанавливают стоимость билетов на уровне от 3700 рублей "Snow-show" (Полунина) до 1300 рублей "Чайка" (Додина), то, разумеется, главными "потребителями" театрального искусства с их точки зрения являются не просто богатые, но очень богатые россияне, а само это искусство становится предметом роскоши— чем-то вроде духов "Шанель № 5", отпускаемых "потребителю" в розлив. "Толстый народец", как называли богатеев в средневековой Флоренции, производящий искусство, занят поисками "толстого народца", готового заплатить непомерно высокие цены и занять места в зрительном зале театра. Картина всеобщего умиления.
Однако вот "Сталинградская битва" грузина Резо Габриадзе. В финале этого спектакля актеры выкладывают на ширму всех кукол, с которыми они только что работали. И мы видим, из какого "сора" (воспользуемся выражением Анны Ахматовой) возникло и прошло перед нами подлинное чудо искусства. Эпопея в кукольном театре — это больше чем парадокс! Великое и заурядное, общее и частное, трагическое и комическое, времена и пространства— все вобрал в себя этот спектакль, но при этом не смешал, не заглушил грохотом войны тихий голос отдельного человека. Остранив человеческое начало условной природой искусства кукольного театра, "Сталинградская битва" удесятеряет нашу потребность в человечности. Формула спектакля Габриадзе: от отчаяния — к надежде, от надежды — к совершенству. И к этому нечего прибавить.
Однако вот "Отелло" в постановке Эймунтаса Някрошюса. На сей раз литовский режиссер не стал навязывать нам свои смутные и прихотливые ассоциации по поводу произведения Шекспира. Опираясь на великий текст, он создал спектакль, с первой до последней минуты электризующий зал грозовой атмосферой действия. Замечательная музыка Фаустаса Латенаса, неумолчный шум моря (хочется сказать— "океана" — так выразительно и по-манделыптамовски мощно звучит в спектакле этот "огромный колокол зыбей") и поистине потрясающая игра исполнителей — Эгле Шпокайте (Дездемона), Роландаса Казаса (Яго), Владаса Багданоса (Отелло),— в отдельные минуты спектакля поднимающихся до высот редчайшего в искусстве сцены трагического гротеска, творят чудо. Внимательно вглядевшись в характеры и судьбы героев, Някрошюс поэтически интерпретирует реальность. Он рассказывает свою собственную, но и шекспировскую "повесть" таким образом, что невольно заставляет вспомнить слова Эжена Ионеско: "Шекспир занимает место между Богом и отчаянием". И к этому снова нечего добавить.