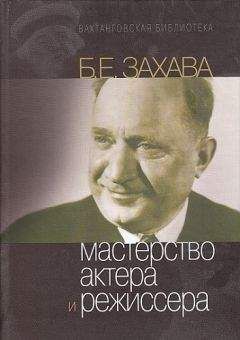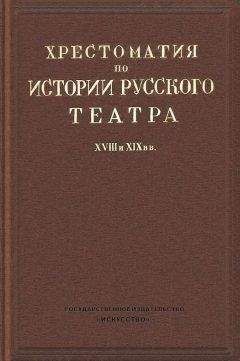Андрей Якубовский - Профессия: театральный критик
Этот вопрос в ходе Олимпиады возникает не раз и не два и на самых различных уровнях. При этом его приходится ставить вне оценок художественной стороны дела: подчас он возникает вместе с осознанием уникальности происходящего на сцене, соседствует с восхищением, даже недоумением — как это сделано? Как здорово это сделано! Но — возникает...
Фигурой, связывающей спектакль сравнительно молодого немецкого режиссера Хайнера Хеббельса "Хаширигаки" и постановку пьесы Августа Стриндберга "Игра снов", осуществленную всемирно известным режиссером-космополитом Робертом Уилсоном, может считаться Гертруда Стайн. Хеббельс использует в своей работе мотивы и тексты этой известной писательницы-модернистки; Уилсон с успехом верного ученика и талантливого последователя реализует ее идею о том, что любая пьеса и поставленный на ее основе спектакль в конечном итоге могут рассматриваться как ландшафт, в котором человек — всего лишь одна из деталей, далеко не первостепенный по важности элемент.
Собственно говоря, последнее с блеском осуществляет и Хеббельс. Он разворачивает перед зрителем сугубо игровое пространство и чисто театральное по своему характеру действо. Оно строится как очень подробный, но малопонятный ребус, под диковинную музыку и в самом причудливом освещении, в котором особое место занимают всякого рода световые эффекты и радикальные перемены цвета. Три очаровательные актрисы то и дело пытаются вступить в прямой и непосредственный контакт со зрительным залом. Однако двусмысленность их монологов оборачивается бессмыслицей, а густая ирония, их окрашивающая, окончательно затемняет существо дела. И все это — при полной отлаженности технической стороны постановки и нарастающем смущенном любопытстве зрителей: все-таки что же перед ними предстало на сцене?
Спектакль "Игра снов" описанию не поддается, впрочем, как и другие постановки Уилсона. Пьеса Стриндберга становится поводом для пространственно-временных экспериментов постановщика (он же — художник) спектакля, в котором стираются границы между явью и вымыслом, неразличимыми делаются реальность и фантазия. Сколь угодно долго можно говорить об элегантности мизансценического рисунка, совершенстве владения ритмом и пластикой, которое демонстрируют актеры стокгольмского "Штадстеатра", о завораживающих ускорениях, а чаще — замедлениях темпа действия, о графическом принципе изысканной сценографии, в которой пустое пространство подчас более значимо, нежели его заполненность, о тончайших оттенках белого, серого, черного, на которых построено благородное цветовое решение декораций и костюмов. Невольно вспоминается чеховский Тригорин, который, по словам Треплева, "выработал себе приемы" раз и навсегда, отчего "ему легко" пишется и беспроблемно творится...
Роберт Уилсон творит по ту сторону жизни и смерти, в гулкой пустоте "чистого искусства", пренебрегая живой реальностью и, что вполне естественно, пребыванием в ней живого человека.
Воображение здесь— у Хеббельса, у Уилсона— не содействует погружению в мир, более глубокому его познанию и более точному представлению о нем. Воображение здесь — способ отгородиться от реальности, забыть о ней, ее преодолеть. Именно поэтому мастера такого типа (а и тот, и другой режиссер — подлинные мастера своего дела) непрестанно "играют" со зрителем. Они интригуют его показным и рассчитанным "иррационализмом" своих отлично придуманных— и продуманных! — построений и в то же время, очевидно, демонстрируют ему свое безразличие, пренебрегают им как еще одной малозначительной деталью "театрального ландшафта".
От встречи с таким искусством остается ощущение, как от прикосновения к искусственному льду: если и обжигает, то оттого только, что холодное.
В контексте нашего разговора о зарубежной программе Олимпиады — мы предупреждали об этом — оценочность отсутствует. Все спектакли интересны, все в высшей степени профессиональны. Но различаются модели, к которым тяготеют те или иные театральные работы, отличны друг от друга ориентиры и результаты саморефлексии, которая нынче столь часто питает искусство, а потому столь существенна для его понимания.
Вот на смену модели "игра в театр" приходит модель "игра с мифом".
Она может осуществляться по мере развертывания принципов "театральной антропологии" в спектакле знаменитого датского "Один-театра", созданного Эуженио Барбой. Она может выйти на первый план в античных постановках не менее знаменитого японского режиссера Тадаши Сузуки, осуществленных им в театральном комплексе Шизуока. Что общего между этими, казалось бы, совершенно разными спектаклями?
Известно, какое место занимало мифологическое сознание в искусстве XX века. Оно открывало путь к постановке глобальных философских проблем, позволяло осветить метафизические вопросы человеческого существования, связать заурядный индивидуальный быт с общечеловеческим бытием. Именно так было в романах Т. Манна и экзистенциалистской драме, в произведениях Д. Джойса и в пьесах Беккета. Вот и Барба, комментируя свой спектакль "Мифы", показанный на Олимпиаде, обещает представить историю XX века через мифологию, с помощью мифологических героев — таких, как Эдип, Медея, Орфей и другие, — справить "поминки" по революциям и прочим потрясениям, которыми был так богат минувший век. Спектакль "Одинтеатра" поражает причудливым эклектизмом и фрагментарностью, тяготеет к крайностям истерии и вместе с тем уничижительного гротеска. Он теряет в этой "гремучей" смеси и поэтический метафоризм, и образную ассоциативность. Более того: по мере развития действия, явно претендующего на ритуальность, оно становится все более алогичным, художественная усложненность все очевиднее оборачивается темнотой общего смысла. Похоже, что вместо инструмента отважного поиска вечных истин в спектакле Эуженио Барбы миф сделался средством "спасения от страха перед историей" (Д. Джойс).
Тадаши Сузуки показал на Олимпиаде три спектакля: оперу "Видение Лира" по трагедии Шекспира, музыка Тошио Хосакавы, "Царя Эдипа" Софокла и, наконец, "Электру" австрийского поэта и драматурга Гофмансталя. Каждая работа японского мастера заслуживает тщательного разбора. За неимением места отметим черты, роднящие все три постановки: во-первых, это стремление решить европейскую классическую драматургию в "технике традиционного японского театра", во-вторых, это весьма любопытное утверждение, что "весь мир — больница, в нем женщины и мужчины— пациенты", перефразирующее известное изречение Шекспира "Весь мир — театр...", и так далее.
Сочетание этих двух установок обеспечивает работам Сузуки необычайную энергетику, художественную остроту и уж, во всяком случае, неожиданность. Однако оно же делает талантливого режиссера пленником заявленных формул и при этом вовсе не обязательно обещает автоматическое достижение зрительского успеха.
И "Видение Лира", представленное в Новой опере, и "Эдип", показанный в Театре на Сретенке, оказались подчеркнуто ритуализированными постановками, в каждой из которых были замечательные режиссерские решения (например, тонко разработанное освещение в "Лире", игра с зеркалами в "Эдипе"), весьма поучительные в театральном отношении моменты (скажем, использование музыки как в том, так и в другом случае). Однако эти спектакли, на наш взгляд, много потеряли из-за ошибочного представления их создателя о том, что Шекспира и Софокла можно на свой лад "углубить" и в то же время без остатка растворить в стихии японского национального сценического искусства. Мы не знакомы с теориями Сузуки, но в этих случаях синтез Запада и Востока очевидным образом оказался недостижим.
Иное дело — "Электра". Предэкспрессионистские видения австрийского драматурга и взвинченно-поэтические образы его драмы нашли органическое выражение в патетическом и жестком (подчас — до жестокости) сценическом стиле Сузуки (впрочем, хорошо знакомом нам по классике японского кино). В "Электре" реализовалась и вторая установка режиссера: мир трагедии оказался заключен в пределы "больницы для душевнобольных". Хор составляли мужчины в черном на инвалидных колясках, к которым затем присоединялись загадочные медсестры в белоснежной униформе; героев вывозили на сцену на креслах-каталках, и каждый из них, очевидно, имел тот или иной диагноз. Так, несчастная, скрюченная в три погибели Электра каталась по сцене, издавала истошные вопли и ее разума хватало только на финальный возглас: "Рази еще!", — которым она сопровождала происходившее за сценой убийство Клитемнестры...
Вот что было особенно интересно: центральной фигурой в спектакле Сузуки оказались не герои, не хор, но фантастический по мастерству ударник Мидори Такеда, неотлучно находившаяся на сцене и сопровождавшая действие своей удивительной игрой. В постановке японского режиссера слово, таким образом, уступало место пению, пение — неар-тикулированному звуку, звук — бешеному ритму ударных...