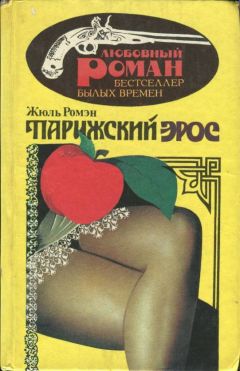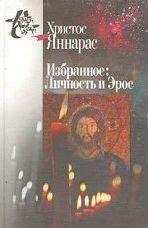Горько-сладкий эрос - Карсон Энн
Не следует также забывать о том, как, чем и на чем писали в античности. На камне, дереве, металле, коже, керамике, вощеных табличках и папирусе. К V столетию папирус стал общепринятым материалом для письма (см. Геродот, V, 58; ср.: Aesch., Supp., 947), а слово «книга» греки позаимствовали у названия папируса (byblos). Как растение, так и идея использовать его для письма пришли из финикийского Библа или, позднее, из Египта, но греки использовали папирус иначе, нежели египтяне или финикийцы. Они пересмотрели концепцию письма и по-новому приспособили материал, точно так же, как, взяв финикийскую систему знаков, преобразовали ее в первый в мире алфавит. Они внедрили радикальное новшество: для того, чтобы писать на папирусе, греки придумали перо (Turner, 1952, 10).
Египтяне писали стеблем тростника. Отрезали его наискось и жевали, чтобы превратить в подобие мягкой кисточки. Такой кистью египетский писец скорее рисовал, нежели писал буквы, выводя толстую и часто неровную линию, и, когда поднимал кисть, она оставляла двузубый след. Греки приспособили для письма твердый полый внутри тростник под названием каламос (ср. Pl., Phdr., 275). Тростниковое перо затачивалось и слегка расщеплялось. Оно давало тонкую линию, не размазывавшуюся, если поднять перо. «Но стоит руке замереть на мгновение, в начале или в конце строки, собирается круглая клякса», – предупреждает специалист по папирусам Эрик Тернер (1952, 11). Кажется, тростниковое перо – инструмент, нарочно созданный для обозначения границ букв. Тот, кто станет им пользоваться, должен строго следить за тем, откуда начать и где закончить выводить каждую букву. Кляксы портят как качество написанного, так и настроение пишущему. Исследования источников в итоге учат вот чему: пишущий работает на стыке удовольствия, риска и боли.
Судя по тому, как и чем писали в античности, можно предположить, что греческий алфавит воспринимался пишущими и читающими как система контуров или границ. Но попытаемся проникнуть по ту сторону физического процесса письма – внутрь умственной деятельности, которая его наполняет. Это поиск символов. Будучи фонетической системой, греческий алфавит подбирает условные знаки не для объектов окружающего мира, но для самого процесса, в ходе которого звуки складываются в речь. Фонетическое письмо имитирует сам речевой процесс. Греческий алфавит произвел революцию в имитационной функции; в нем выявился согласный звук – элемент условности, абстракция. Согласный звук функционирует благодаря акту воображения в разуме того, кто его произносит. Я пишу эту книгу потому, что этот акт до сих пор изумляет меня. В этом акте разум тянется от настоящего и актуального куда-то еще. Тот факт, что эрос действует при помощи схожего усилия воображения, скоро откроется нам как самое в нем удивительное.
Чего хочет влюбленный от любви?
Поразительная победа над Манти не доставила мне удовольствия, равного сотой доле страдания, которое Манти причинила мне, променяв меня на г-на де Бопье [43].
Ответ, лежащий на поверхности, – влюбленный желает возлюбленного. Но это, разумеется, не так. Если мы пристально всмотримся во влюбленного на пике желания, скажем, у Сапфо во фрагменте 31, то увидим, как трудно ей дается созерцание возлюбленной даже на расстоянии. А воссоединение вообще грозит ее уничтожить. Влюбленной в том стихотворении нужно обрести способность созерцать возлюбленную, не погибая, то есть достичь состояния того, кто «так близко-близко пред тобой сидит». Такая идеальная невозмутимость для нее – проблеск новой, возможной себя. Если б она могла осознать это потенциальное «я», она бы на пике желания стала «равной богам», но в той мере, в какой она не осознает этого, желание может ее разрушить. И та и другая возможность отражаются на экране актуальной действительности благодаря избранному поэтессой приему триангуляции. Богоподобная сущность, ранее неведомая, оказывается теперь в центре внимания – и снова исчезает, стоит сместить взгляд. Сдвигаются уровни зрения, и на мгновение реальное и идеальное «я» и разница между ними соединяются в треугольнике. Соединение и есть эрос. Ощутить, как проходит сквозь нее эротическое напряжение, – вот чего на самом деле желает влюбленная.
Неотъемлемые черты эроса уже проступали, когда мы исследовали концепцию горькой сладости. Одновременность удовольствия и боли – его симптом. Отсутствие – вдыхающий в него жизнь основополагающий элемент. С точки зрения синтаксиса, эрос показался нам своего рода обманом зрения: будучи по сути существительным, эрос всюду выступает как глагол. Его действие – стремление, и устремившееся желание вовлекает каждого влюбленного в игру воображения.
Мысль о том, что воображение играет важную роль в человеческом желании, не нова. Гомеровское описание Елены в «Илиаде», возможно, является архетипической демонстрацией этого. От собственно описания Гомер удерживается. Он говорит лишь о том, как старики на троянской стене, стоит ей пройти мимо, начинают шептаться:
Елена так и остается абсолютно желанной, абсолютно воображаемой, идеальной.
Теоретики эротического потратили много времени на обсуждение воображения влюбленного. Аристотель в «Риторике» дает определение динамике и восторгу воображения: сравнивая желание с тягой (orexis) к сладкому, он поясняет, что человек может искать удовольствие и в прошлом, вспоминая, и в будущем, надеясь, и делает это с помощью воображения (phantasia, Rh., I, 1370a6). Андрей Капеллан, исследуя тоску влюбленного в трактате «О любви» (XIV), написанном в двенадцатом столетии, настаивает на том, что эта самая passio — всецело плод работы разума. «А что любовь есть страсть врожденная, покажу я тебе с несомненностью, ибо по зорком рассмотрении истины мы видим, что ни из какого она не рождается действия, но единственно из помышления, возникающего в душе пред видимым очами, возникает названная страсть» [45]. Стендаль в знаменитом эссе о любви открывает во влюбленном процесс мечтаний, названный после посещения зальцбургских копей «кристаллизацией»:
Дайте поработать уму влюбленного в течение двадцати четырех часов, и вот что вы увидите: в соляных копях Зальцбурга в заброшенные глубины этих копей кидают ветку дерева, оголившуюся за зиму; два или три месяца спустя ее извлекают оттуда, покрытую блестящими кристаллами; даже самые маленькие веточки, не больше лапки синицы, украшены бесчисленным множеством подвижных и ослепительных алмазов; прежнюю ветку невозможно узнать. То, что я называю кристаллизацией, есть особая деятельность ума, который из всего, с чем он сталкивается, извлекает открытие, что любимый предмет обладает новыми совершенствами [46].
Кьеркегор также посвящает мысли «чувственно идеализирующей силе… [которая] украшает и возвышает предмет желания, который вспыхивает все возрастающей красотой благодаря такому отражению» [47]. Сила, при помощи которой соблазняет Дон Жуан, есть «энергия чувственного желания», с оттенком облегчения заключает Кьеркегор («Или-или. Фрагмент из жизни»). Фрейдистская теория обращает внимание на способность эротического инстинкта человека к проекции, приписывая ей обычную ситуацию в ходе психоаналитических сеансов, называемую «переносом». Перенос возникает почти в каждых психотерапевтических взаимоотношениях, когда пациент или пациентка упорно влюбляется в доктора, несмотря на намеренную отчужденность, предупреждения и противодействие последнего. Важный урок эротического недоверия доступен всякому психоаналитику, который наблюдает, как из него на пустом месте создают объект желания.