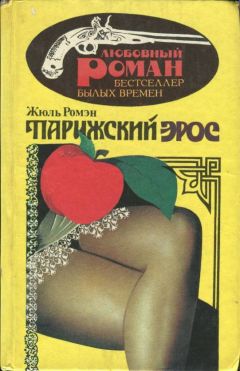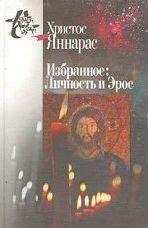Горько-сладкий эрос - Карсон Энн
Аналогия между природой эроса и духом греческого алфавита может покажется вычурной современному, с детства грамотному человеку, но не исключено, что наша восприимчивость в этой области притупилась из-за привычки и безразличия. Мы слишком много читаем, слишком плохо пишем и слишком мало помним о том, какой восторг – учиться всему этому впервые. Подумайте, сколько сил, времени и эмоций затрачивается на попытки научиться: они поглощают не один год и существенно влияют на самооценку, во многом формируя дальнейшую способность к восприятию мира и взаимодействию с ним. Подумайте о том, как красивы буквы, и о том, каково это – познавать их. В автобиографии Юдора Уэлти пишет о собственной восприимчивости к этой красоте:
Моя любовь к алфавиту, которая жива и по сей день, начиналась с чтения его вслух, но прежде – с созерцания букв на странице. В моих детских книжках со сказками даже прежде, чем я могла прочесть их самостоятельно, я влюбилась в причудливо изогнутые, волшебные с виду заглавные буквы, нарисованные сэром Уолтером Крейном в начале каждой страницы. Внутри буквы «О» в слове «однажды», точно в колесе, бежал кролик, ступая по цветам. Когда много лет спустя мне довелось воочию увидеть Келлскую книгу, с тысячекратно умноженной силой меня захлестнула красота заглавных букв, и строчных, и слов, а рисунки и позолота показались частью красоты и святости мира, присущих ему с начала начал.
Думаю, восторг Юдоры Уэлти при виде красоты написанных букв – нечто присущее писателю. Говорили, что на Пифагора они оказывали схожее эстетическое воздействие:
Πυθαγόρας αὐτῶν τοῦ κάλλους ἐπεμελήθη, ἐκ τῆς κατὰ γεωμετρίαν γραμμῆς ῥυθμίσας αὐτὰ γωνίαις καὶ περιϕερείαις καὶ εὐθείαις.
Он чрезвычайно заботился о красоте букв и каждую выписывал в геометрическом ритме углов, изгибов и прямых линий.
Такое усердие при написании букв – опыт, знакомый многим из нас. Заманчивые, хитроумные формы, им учишься, раз за разом выводя их очертания. И в античности дети точно так же обучались письму, выводя очертания каждой буквы, как можно судить по описанию в платоновском «Протагоре»:
…учители грамоты сперва намечают грифелем буквы и лишь тогда дают писчую дощечку детям, еще не искусным в письме, заставляя их обводить эти буквы… [42]
Для каждого, кто учился писать подобным образом, границы букв – запоминающиеся, вызывающие чувства. Такими и остаются.
Можно только догадываться, сколь сильное впечатление очертания букв греческого алфавита произвели на тех, кто впервые постигал их в Древней Греции. В греческих трагедиях есть сцены, в которых отражается процесс постижения. Самая длинная из них – фрагмент «Тесея» Еврипида. Человек, не умеющий читать, замечает в море корабль с надписью. И «читает»:
Этот человек описал шесть букв имени Тесей (ΘΗΣΕΥΣ). Вероятно, с точки зрения драматургии эта сцена вышла эффектной, поскольку ее очень близко к тексту воспроизвели два других драматурга, как показывают сохранившиеся фрагменты (TGF, Агафон, fr. 4, и TGF, Теодект, fr. 6; ср. Ath., Х, 454b). Рассказывают, что Софокл поставил сатировскую драму, в которой актер танцевал буквы алфавита (TGF, fr. 6; Ath., 454f). Афинский комический поэт Каллий предположительно поставил нечто под названием «Представление алфавита»: двадцать четыре участника хора изображали буквы, а потом имитировали слоги, танцуя парами гласный + согласный звуки (Ath., 453с). Вероятно, большинство зрителей этих представлений вполне могли разделить и увлеченность, и досаду, с какой изображались буквы алфавита. Вероятно, им самим случалось испытывать подобные чувства, когда они учились писать буквы. Или же сама мысль о таких трудах пугала простых людей, и они так и не выучились грамоте. Может, каждый вечер за ужином им жаловались дети на то, как это сложно. Как бы то ни было, подобные представления предназначены для тех, чье воображение могло захватить зрелище grammata, возникающих, как живые, прямо из воздуха. Это были люди с очень развитым воображением, и им наверняка доставляло удовольствие наблюдать за пластическими образами алфавита.
Если поразмыслить над древнегреческим письмом как физическим процессом, мы увидим схожую работу воображения. Греки явно рассматривали алфавит как набор художественных приемов. На протяжении VI века до н. э. они использовали разнонаправленное письмо бустрофедон, названное так из-за разворота в конце строки: словно вол, дойдя до конца борозды, поворачивает назад вместе с плугом (Павсаний, V, 7, 16). Все буквы в нечетных строках направлялись в одну сторону, а в четных – строго в противоположную. Подобная манера письма для грека была не так уж сложна, ведь из двадцати шести изначальных символов двенадцать были симметричными, шесть требовали минимальных изменений при развороте, и лишь восемь выглядели заметно иначе. Бустрофедон предполагает, что пишущий рассматривает буквы как набор всякий раз новых, обратимых, двусторонних символов – очень по-гречески. Кажется, греческое общество не заимствовало этот стиль у какой-либо другой письменности. «Его изобретение, – пишет Л. Джеффри, – предполагает простое представление о буквах как об изображаемых символах, могущих по мере надобности быть повернутыми в любую сторону» (1961, 46).
Внимание к контурам у ранних греческих авторов очевидно не только на уровне отдельных букв, но также в подходе к группе слов и строкам текста. Примечательная черта архаических надписей – они часто отмечают окончание групп слов точками, поставленными одна над другой небольшими колонками по две, три или шесть. В классический период эта традиция отмирает – пишущие и читающие давно утратили интерес к своим способностям как утверждать границы, так и отрицать их. Также в ранних надписях с особым тщанием подходили к разграничению строк текста, и в бустрофедоне вовсе не случайно чередование строк подчеркивается направлением письма. Даже после того, как к V веку этот стиль практически полностью уступил место последовательному письму слева направо, пишущие сохраняли приблизительную разметку строк при помощи чернил разного цвета. Строчки вырезанных в камне надписей тоже порой окрашивали попеременно в красный и черный цвета. Специалисты по эпиграфике предполагали, что к таким действиям побуждает «некая эстетическая мотивация» (напр.: Woodhead, 1981, 27). Но это, заметим, особенный тип эстетики: в письменности красота требует границ.