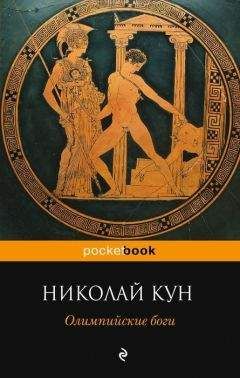Ян Парандовский - Эрос на Олимпе

Обзор книги Ян Парандовский - Эрос на Олимпе
Ян Парандовский
Эрос на Олимпе
Памяти Альфреда Альтенберга
ОТ АВТОРА
Когда неполных два года назад я работал над «Мифологией», предназначенной для юного читателя (правда, в первую очередь ее прочитал так называемый взрослый читатель), я с сожалением увидел, как много необычайно интересного материала не смогло попасть в мою книгу из высших педагогических соображений. И когда меня коробило при кастрировании греческих мифов, я брал ту или иную историю и ради собственного удовольствия развертывал ее в рассказ, наполненный старыми образами и новыми домыслами. Так создавались легкие рассказики, прихотливо сочиняемые на полях моих любимых древних авторов, пока из них не составилась книжка, которая, как думаю, станет приятным чтением для обделенного взрослого читателя.
С богами и героями Древней Греции я дружу издавна. Кажется, знаю их достаточно хорошо и без грубых ошибок могу отобразить их запутанные судьбы. Но мои знания не являются знаниями ученого. Глубоко уважаю терпеливых тружеников, которые собирали и расшифровывали греческие мифы, но, при всем к ним уважении, не собираюсь идти по их стопам. С интересом просматриваю их ученые труды, однако пользоваться результатами научного анализа мифов избегаю. Поэтому нигде не поясняю, что история Пасифаи содержит следы первобытного культа быка или что Афина была когда-то совой. Не отслеживаю развитие греческой легенды с глобусом звездного неба в руках и не принижаю достойных восхищения персонажей греческой мифологии ссылками на их происхождение из простоватых сельских обрядов.
Итак, я не ученый. Если временами и вступаю в катакомбы знания, какими являются большие библиотеки, то лишь для того, чтобы потом с большей радостью дышать свежим воздухом свободной и непринужденной фантазии. Мифология представляется мне роскошным садом, по которому надо прогуливаться тихо и деликатно. Хочу наслаждаться ароматом растущих там цветов, а не познавать тайны их строения ценой оторванных лепестков. Наверное, обнаруживаю тем самым непростительное верхоглядство, достойное осуждения серьезных людей.
Впрочем, виновато не только мое легкомыслие, но и мои учителя, а учителями моими были не теологи и историки религии, а поэты, и у них я позаимствовал беззаботный обычай принимать всерьез древние россказни без поиска сокрытого в них глубоко смысла. Меня не посвящали в какие-либо таинства, и поэтому я не обязан трактовать романы Зевса с мистических позиций. Я привык воспринимать его как особу, нацеленную исключительно на погоню за наслаждениями, и вместе с Г. Кицлером, геттингенским магистром искусства, считаю, что «в соответствии с королевско-ганноверским уголовным правом Зевс сто раз заработал заключение, если не казнь через повешение». Это, однако, нисколько не мешает моему чувству любви и восхищения по отношению к данному образу.
За исключением окружающего фантастического ореола олимпийские боги не имеют в себе ничего божественного. Думаю, что они в полной мере соответствуют восприятию их греками как полного образа и подобия людей. Эти боги испытывают радость, голод, печаль, они ревнивы, похотливы, завистливы, коварны, вероломны, способны на сочувствие, иногда забывают обиды, иногда злопамятны, совсем как люди, и порой их бессмертие – единственное, что отличает их от людей, – может стать для них мучением, как, например, для мудрого кентавра Хирона, который в муках своих молил о смерти.
Эту книгу некоторые могут назвать плохой, упрекая ее в непристойности или извращенности. Но это не так. Нет плохих книг, кроме тех, что плохо написаны. Бывают, правда, плохие минуты, в которые самая хорошая книга не поможет и даже ухудшит настроение. Не будем ханжами перед прошлым. Я писал эту книгу исходя из простоты понятий древних греков и хотел бы, чтобы ее так и читали. Наша мораль, возникшая после нескольких веков мыслительного хаоса, не подходит для оценки морали древних греков. Если бы они столкнулись с нашим лицемерием, оно только подтвердило бы их отношение ко всем, кто не живет под благословенными лучами греческого солнца, как к варварам. Еще Геродот сказал: «У лидийцев, как почти у всех варваров, даже мужчина стыдится показаться голым». Они верили, что нет ничего прекраснее человеческого тела, и были близки к мысли, что любовь является самым священным чувством на земле. Любовь, любовные дела древние никогда не связывали с понятиями стыда и бесстыдства. А если кому-то и понадобилось бы это сделать, нашли бы ответ в пословице: «И бесстыдство является божеством». Да, и этому божеству был поставлен храм в Афинах…
Я. П.
1955 г.
ЭРОС НА ОЛИМПЕ
На самой высокой из вершин Олимпа, откуда всевластный повелитель богов и людей Зевс созерцает из-под черных бровей лежащий перед ним земной круг,[1] восседает Эрос. Под золотым троном громовержца зигзагами пламенеют молнии, глухо грохочет гром. Чистый эфир[2] сиреневым отблеском обволакивает дворцы богов, расположенные ниже. Через две бреши в скалах, по которым доносятся до ушей Зевса молитвы и клятвы смертных, видна земля с горами, прикрытыми овчинкой лесов, и долинами, замысловато прорезанными глубиною рек, стелется фиалковая дымка греческого моря. Необъятно царство Эроса.
И действительно, это царство более его, чем Зевса. Ведь по воле Эроса владыка небес и земли сегодня, как и много раз до этого, покинул золотой трон, чтобы в каком-нибудь диковинном одеянии искать любовь там, далеко, среди неровных прямоугольников полей, благоухающих чабрецом. Страшное самодовольство обуревает Эроса, ибо он видит, что власть его выше власти Зевса: господствует он и над Олимпом, и над живородящей землей, и все, что обитает в водной пучине, воздает ему хвалу вечным ритмом любви. Даже там, куда без страха не могут заглянуть и боги, – в подземном царстве – боготворят его сладострастную силу. Так было от начала времен: в проблесках первого утра мерцали искры его взгляда, и в журчании первых потоков звенел волшебный смех.
Чаша цветка, открываясь заманчиво навстречу серебряной капле росы, выдает своим благовонным вздохом тайное томление, а ветер пересказывает его молодым листкам дерева, скрывающего под темной корой белое тело Гамадриады. Утренний птичий хор восхваляет Эроса, а лесные звери ревом взывают к нему в азарте гона. Его дыханием вздымается широкая грудь моря и биением его сердца бьются сердечки под сонно вздымающимися персями дев. Это он уподобляет женское тело многострунной лире – «ужаснейший из богов», стрелы которого, как солнечные дротики, благотворны и опасны. Он шествует по морю и среди пастушьих хат, превращает лесной шалаш в золотой дворец и на голых скалах рассыпает диковинные цветы, вырывает жало смерти и несет жизнь в рубиновой чаше любящих уст. Богов заставляет надевать личину зверей, людей же равняет с богами.
Эрос! Четыре звука, в которых заключен весь ритм жизни, весь восторг света. Эрос! Так должно было звучать слово творения, что извлекло гармоничное тело Космоса из глубин Вечности. Никто не знает, откуда он родом, а кто захочет узнать – не прозреет. Один только старый певец Гесиод (его устами говорят сами Музы[3]) возгласил, что Эрос древен, как Земля и Тартар. И еще один поэт – Ивик,[4] которому журавли отомстили, ясновидящим взором увидел, как Эрос возникает из хаоса.
Акусилай,[5] искавший во мраке прошлого начало бытия, именовал его сыном Ночи и Эфира. Так впервые профанация коснулась великой тайны рождения Эроса. Дали ему мать и отца, невзирая на то, что не могло быть любви до рождения Любви. С тех пор растаяли чары благородной тайны. Эрос падал на все более низкие ветви генеалогического древа богов. Для одних он был еще сыном Крона, владыки старых, дозевсовых миров, а для других – сыном Эйлейтии, олимпийской акушерки. Мечтательный Алкей[6] вел речь о том, что Эрос произошел из любви Зефира, бога капризных ветерков, и Ириды, мимолетной богини радуги. И в конце концов повсеместно согласились считать его родителями Арея и Афродиту – эту пару любовников, попавшихся в искусные сети хромого Гефеста.
Так перестал он быть чтимым богом. Миниатюрный божок, которого можно вырезать из слоновой кости – милая и симпатичная безделушка – и как гемму носить в ожерелье или перстне. Вручили ему для забавы, как мальчику, маленький лук и колчан, полный стрел, цветок да лиру. Снабдили золотыми крылышками, прикудрявили волосы, изнежили деликатное тело и только глаза осветили коварным огоньком.
Эрос мог летать, где хотел, и делать, что нравится. И пользовался этой свободой без меры. Осмотрев свой колчан, он убедился, что стрелы, которыми он полон, годны для весьма веселой забавы. Были они двух видов: золотые, очень острые, разжигали чувство, оловянные, тупые, закрывали сердце для любви. Не преминул испытать те и другие. Царапины от золотой стрелы были довольно, чтобы Гелиос ради прекрасной Климены задержал бег солнечной колесницы, а сереброликая Селена останавливалась ночью над спящим Эндимионом. «Безбожный мальчуган» заставил Зевса принимать самые диковинные обличья в погоне за блаженством все новых объятий. И не было для Эроса ничего святого, ибо по его воле достойная мать богов Рея[7] начала чернить седые волосы и преследовала красивого юношу Аттиса по всей Фригии.