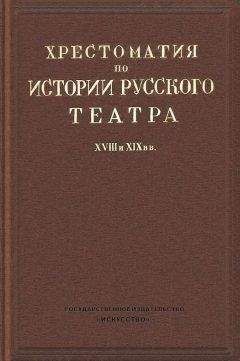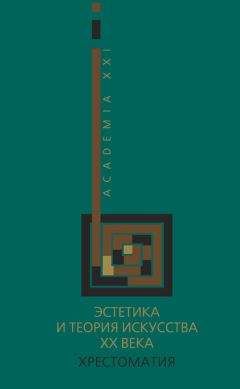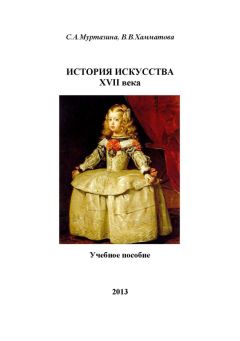Другая история русского искусства - Бобриков Алексей Алексеевич
После Манифеста о вольности дворянской 1762 года в России постепенно возникает новая аристократия, не связанная со службой и чинами и чем дальше, тем больше противопоставляющая себя бюрократии — главным образом новой екатерининской бюрократии. Возможность приватного существования, возникшее пространство новой частной — сначала скорее светской, клубной [113], потом все более интимной — жизни порождают новые формы культурного поведения и новые типы позиционирования в портрете. Портрете сентиментальном, а не рокайльном.
Термин «сентиментализм» [114] по отношению к портрету означает чаще всего преобладание «внутреннего» (душевного или духовного) над «внешним» (телесным и костюмным); преобладание «интимного» над «репрезентативным» [115]. Этим интересом к «сокрытому» сентиментальный портрет отличается от рокайльного, тоже приватного и камерного, но все-таки ориентированного на внешнее (безукоризненный вкус в одежде, элегантную позу, светскую маску). Но принципиальное противопоставление рокайльного и сентиментального портретов у Рокотова (да и у Гейнсборо, с которым Рокотова иногда сравнивают) лишено смысла; оба типа портрета входят в новый «аристократический» канон. Душевная сложность — это знак избранности.
Частный московский Рокотов [116] любопытен в первую очередь как новый для русского искусства тип художника. Рокотов — это «джентльмен», один из основателей московского Английского клуба, чья подпись стоит под уставом. Здесь совершенно не важен характер его происхождения — дворянского по одной версии [117], крепостного из села Воронцово по другой [118] или бастардского (по этой компромиссной версии он был внебрачным отпрыском князя Репнина, получил при рождении освобождение от крепостной зависимости и дворянство). Важно новое артистическое благородство — как вариант благородства джентльменского, вовсе не требующего обязательного аристократического происхождения. Этот «джентльменский» статус порождает равенство художника и заказчика (отсутствующее, например, у Антропова — как, впрочем, и у прочих русских художников после Ивана Никитина и Матвеева): «он писал своих заказчиков как равный равных, не раболепствуя пред ними <…> и не посмеиваясь нам ними исподтишка» [119]. Это равенство, в свою очередь, дает свободу для создания собственной портретной мифологии. Портреты Антропова демонстрируют главным образом вкусы заказчиков. Портреты Рокотова — вкус, мировоззрение, стиль самого Рокотова.
Именно в Москве после 1765 года рождается «настоящий» Рокотов. Во второй половине 60-х — в портретах Артемия Воронцова (1765, ГТГ) и Аграфены Куракиной (Тверская картинная галерея) — появляются первые образцы «подлинно» рокотовского стиля; в начале 70-х возникают самые знаменитые вещи Рокотова: «Портрет неизвестного в треуголке» (ГТГ), портреты Струйских — Александры и Николая (1772, оба в ГТГ), «Портрет неизвестной в розовом платье» (ГТГ). Именно здесь, в этих портретах, создается мифология русского портретного сентиментализма.
Сентиментальный тип портрета порождает, как уже отмечалось, новый тип благородства — «благородство души» (а не происхождения или даже джентльменского воспитания и манер). Разумеется, это «благородство души», «возвышенность мыслей», общая «одухотворенность» существуют не как нечто увиденное в каждом из изображенных людей, а как сконструированное, придуманное самим Рокотовым (подобно «величию», «могуществу», «аристократическому достоинству», придуманным художниками барокко или версальского большого стиля, сумевшими создать специальный язык для этих «образов»). Это — сентиментальный миф.
Рокотовская «одухотворенность» как обобщающая характеристика складывается из нескольких черт. Например, «неуловимость» — очень важное в контексте сентиментализма качество. Некоторая неопределенность, порождающая ощущение сложности как потенциальной бесконечности возможностей, выражена у Рокотова через рассредоточенные взгляды, скользящие полуулыбки, неясные тени настроения. Это уже не просто сложность, а «загадочность», «таинственность».
Можно предположить, что проявлением (или условием) «одухотворенности» является женственность. Главные шедевры Рокотова 70-х («Портрет Струйской», «Портрет неизвестной в розовом платье») — это женские портреты (сентиментализм — это вообще преимущественно женское искусство); и мужчины, входящие в сентиментальный канон («Портрет неизвестного в треуголке» [120], «полусмытый» «Портрет Струйского»), наделены скрытыми женскими чертами: слабостью, мягкостью, некоторой безвольностью [121].
Бесплотность, бестелесность, призрачность, фантомность [122] — другой набор эпитетов, часто применяемых по отношению к Рокотову; это важное условие «одухотворенности», никак не предполагающей цветущей плоти. Персонажи Рокотова и физически «не от мира сего»; они пребывают где-то «по ту сторону». Сентиментальный портрет — это изображение «души», а не «тела». Рокотов как бы растворяет антроповский и ротариевский типы, лишает их не только подчеркнутой внешней физической характерности (присутствующей у Антропова), но и определенности формы, пусть даже стандартной (наличествующей у Ротари). Все это создает некую общую «зыбкость», — которая в свою очередь и порождает (или развивает) «одухотворенность». Подчеркивается она и характером фонов — полумраком.
Цветовая гамма «сентиментального» Рокотова исключает яркость. Это гамма приглушенная, почти пастельная, часто очень изысканная по оттенкам. Рокотовская живописная техника также содержит в себе некую — необходимую для создания «зыбкости» — расплывчатость, сглаженность, стертость, размытость границ, которую иногда называют рокотовским «сфумато». Иногда эта стертость и погашенность тона господствует в портрете (как в «Портрете Струйской»), но чаще по этому слою переходов из тона в тон Рокотов дает светлым тоном быстрые росчерки кистью, обозначающие блики на складках, кружева или фактуру золотого шитья (особенно этот контраст общей размытости и бегущих вспышек, бликов — в том числе крошечных бликов, поставленных в глазах, — виден на портрете Артемия Воронцова). Это дополняет общую «зыбкость» неким «мерцанием».
Московский Рокотов — это фабрика [123]. Ему принадлежат сотни портретов (из рокотовских «головок», как из «головок» Ротари, можно составить не один Кабинет мод и граций). Его полуулыбки (напоминающие улыбки архаических кор), его миндалевидные, всегда чуть прищуренные глаза с поволокой [124] — это часть некой сентиментальной маски. Рокотов создает новый сентиментальный стандарт — вместо рокайльного; вводит моду на сложность чувств. Раз созданный, этот стандарт (миф, образ, тип героя, тип живописного стиля) начинает тиражироваться автором, а потом и вовсе отделяется от своего создателя и начинает жить собственной жизнью. Тиражирование обнажает прием: то, что не сразу заметно в двух-трех портретах, заметно в двадцати-тридцати; оно показывает условность, которой подчинены и его шедевры. Первой становится очевидна комплиментарность [125]. Рокотов как портретист комплиментарен не в меньшей — а может, даже и в большей — степени, чем Ротари. Комплиментарность в данном случае проявляется в наделении моделей не внешней миловидностью (важной в кукольной эстетике популярного рококо), а душевной глубиной и сложностью (более важной в традиции сентиментализма), свидетельствующими о каком-то новом, прежде неведомом благородстве; в наделении моделей чрезвычайно приятной неуловимостью и загадочностью. Таким образом, «полуулыбка, полуплач» — это не экзистенциальные откровения, это новые моды и грации. Общее для всех — доступное любому заказчику (особенно заказчице) — пространство мифологии.