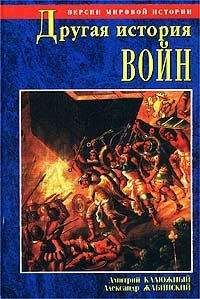Г. Богемский - Кино Италии. Неореализм
Однако если в этой сжатой истории реализма в киноискусстве каждая страница представлена в тот или иной момент отдельным, часто изолированным направлением кинопродукции, только Франция, в эти последние годы, нам показывает, что там существует типичная школа, общая манера подхода к кинематографическому повествованию и его осуществлению. И в самом деле, нет ничего удивительного, что в определенный момент именно во Франции кино искало спасение в веризме: после долгих лет серой и безликой кинопродукции Дювивье, Карне14 и Ренуар, перечитав Мопассана и Золя, возвратили французскому кино определенную атмосферу, язык, стиль. Разумеется, далеко не всегда эта веристская поэтика соответствовала подлинной поэзии: поэтому — кроме прохода Пепе в Алжире в финале фильма «Пепе ле Моко» и мопассановского воскресного пикника в «Дружной компании»15 — мы склонны без сожаления пожертвовать Дювивье и его подражателями. Но также ясно и то, что пустая банальность — приписывать болезненной жестокости Карне и тем более Ренуара значение некоего симптома распада и гнилости французского общества накануне самого страшного военного поражения за всю историю Франции.
Необходимо только добавить, что именно из-за сильного влияния таких литературных произведений, как произведения Золя и Ренара, а также бурных страстей, раздиравших в те годы французское общество, кинематографический реализм во Франции решительно принял форму и окраску натурализма (не стоит здесь указывать на глубокое различие между реалистическим подходом и натуралистическим вкусом). Отсюда свойственный ему интерес к патологическим аспектам действительности; на все вопросы научного, экспериментального порядка он давал ответы чуть ли не в декадентском духе. Поэтому, если только недобросовестная критика может просто отрицать некоторые эпизоды фильмов Ренуара (напомним хотя бы бег поезда через пустынные поля Франции в «Человеке-звере» или подавленную страсть солдата-беглеца и одинокой крестьянки в «Великой иллюзии»), проникнутые подлинной потаенной поэзией, все же нельзя не заметить, что жестокость и любование ужасами в некоторых кадрах придают порой фильмам Ренуара характер бессвязной хроники, а не произведения, являющегося плодом творческой фантазии.
Наша слепая вера в кредо реализма, как это очевидно, требует точной оценки, четкого равновесия между разумом и той девственной моральной силой, которая питает и поддерживает реализм таких режиссеров, как Дюпон и Видор.
Вера в правду и в поэзию правды, вера в человека и в поэзию человека — вот, следовательно, то, чего мы требуем от итальянского кино. Это утверждение простое, это скромная программа, но мы все более решительно встаем на защиту этой скромной простоты всякий раз, когда окидываем взглядом историю итальянского кино и видим, что его развитие происходит в пространстве, замкнутом, с одной стороны, исполненным риторики, допотопным даннуцианством «Кабирии»16, а с другой — стремлением укрыться в выдуманном мелкобуржуазном рае табаренов на римской улице Национале, где в доморощенных «смелых сценах» дают выход своей фантазии постановщики наших любовных комедий. Мы все более решительно встаем на ее защиту, когда видим, как утрачивают, забывают единственную, подлинную и благородную традицию нашего кино — традицию, идущую от впечатляющей, проникнутой мукой маски Эмилио Гионе17, от искренней страстности «Затерянных во мраке» Мартольо18; когда мы видим, как такой умный режиссер, как Камерини19, оставляет печальную и простую силу своего фильма «Рельсы» ради весьма корректного, но, несомненно, куда более легковесного и банального стиля «Романтического приключения»; когда мы видим, как Марио Солдати, к тому же автор некоторых наиболее богатых выдумкой, свободно написанных и сильных из всех современных итальянских рассказов, оставляет свои остерии и порты, свои мрачные, темные интерьеры, свои колоритные и чистые пейзажи ради ризотто с трюфелями Антонио Фогаццаро.
В самом деле, также и в своем выборе литературной традиции итальянское кино обнаруживает любопытные пристрастия: Антонио Фогаццаро и Джироламо Роветта, Лючио Д'Амбра и Флавия Стено, Нино Оксилья и Лючана Певерелли20... Такой выбор чуть ли не подтверждает дурацкую легенду, что итальянская литература по воле божьей лишена повествования. Было бы полезным делом указать нашему кино парадные подъезды итальянской литературы вместо обычных черных ходов (это помогло бы также не ломиться слишком поспешно в те «святые врата»21, которые открывают лишь в годы Юбилея, поскольку «Обрученные»22 или «Божественная комедия» не так уж часты).
Здесь наиболее проницательные читатели поймут, что сейчас мы неминуемо назовем в качестве наипервейшей рекомендации одно имя — Джованни Верга. Джованни Верга не только создал великие художественные произведения, — он создал целый мир, эпоху, общество; мы, кто верит в искусство, ценя в нем прежде всего способность воссоздавать правду жизни, полагаем, что гомеровская и легендарная Сицилия «Семьи Малаволья», «Мастро дона Джезуальдо», «Возлюбленной Граминьи», «Иели-пастуха» представляет собой одновременно и среду самую богатую и гуманную, поразительно девственную и подлинную, способную вдохновить фантазию художника кино, который стремится исследовать события и факты прошлого на фоне подлинной действительности и хочет отдохнуть от легковесных рецептов, диктуемых вульгарными буржуазными вкусами. А тому, кого привлекают фальшь, риторика, дешевые штампы, кто подражает образцам зарубежной кинопродукции, техническое совершенство которой не спасает, однако, от пустоты, никчемности, бедности мысли и чувств, новеллы Джованни Верги, по нашему мнению, словно указывают единственные исторически значимые требования — требования революционного искусства, творящего во имя страждущего и надеющегося человечества.
Перевод А. Богемской
Лукино Висконти.
В хождениях по разным кинематографическим фирмам доводится слишком часто натыкаться на трупы, которые упрямо полагают, что они живы. Наверное, и другим приходилось, как и мне, встречать их; но, возможно, вы просто не успели убедиться в этом, потому что, появляясь на людях, они одеваются так же, как мы с вами. Однако процесс разложения, незаметно для окружающих происходящий внутри них, все же распространяет гнилостный запах, которому уже не укрыться от обоняния того, кто хоть чуточку поопытнее. В наисовременнейших зданиях, где теперь воцарились некоторые фирмы, все кабинеты выходят в длинные коридоры с множеством идущих в ряд дверей, и на каждой двери — стандартная табличка с именем владельца кабинета: совсем как в колумбарии на кладбище.
Открыв как-то наугад одну из этих дверей, я оказался свидетелем незабываемой сценки: какой-то старичок, подпрыгивая, бегал по комнате в яростном порыве вдохновения под взглядом своего ровесника — с бородкой, как у старого индюка. Неподвижно сидя за огромным письменным столом светлого дерева, тот, грызя таблетки уротропина, зорко следил за каждым его движением, словно змея за кроликом, которого она собирается сожрать.
Такие персонажи назначают друг другу встречи где-то ближе к вечеру, после окончания мучительного процесса пищеварения, и садятся сочинять оперные либретто, которые уже существуют, но они-то об этом не знают.
Если вам вдруг представится случай говорить с одним из этих господ и вы должны будете, поборов легкое отвращение, изложить ваши мечты, ваши заблуждения, ваши надежды, они, созерцая, уставятся на вас отсутствующим взглядом сомнамбулы, и из глубины их тусклых глаз на вас вдруг словно повеет холодом смерти. Когда они услышат ваши аргументы, с ними произойдет то, что с одним из персонажей Эдгара По: он уже давно умер, но тело его осталось в целости и сохранности благодаря мощной магнетической воле; однако стоило ей вдруг отказать, как он начал на глазах гнить и рассыпаться.
Уже мертвые, они продолжают жить, не замечая хода времени, существуя, словно отражение чего-то уже давно исчезнувшего: того их выцветшего мирка, где модно было ходить по полам из папье-маше и гипса; где легкие задники колебались от ветерка, когда неожиданно распахивалась дверь; где вечно цвели розовые кусты из папиросной бумаги; где стили и эпохи, не мудрствуя лукаво, путались и сливались, — где, одним словом, Клеопатры в духе «либерти», в прозрачных юбочках, прикидываясь вампирами, грозили хлыстом обидчивым Маркам Антониям, затянутым в корсеты на китовом усе.
Они оплакивают тесные павильончики со стеклянными крышами, напоминающими оранжереи и фотолаборатории далеко на окраине.
Иногда их можно встретить ночью, между полуночью и часом, когда с невинным видом ученика коллежа, сбежавшего после отбоя, мчатся навестить тайком подружку — молодую девушку, которая им позволяет чуточку поплакаться в жилетку. Стараясь остаться незамеченными, они поднимаются по лестницам, пахнущим карболкой.