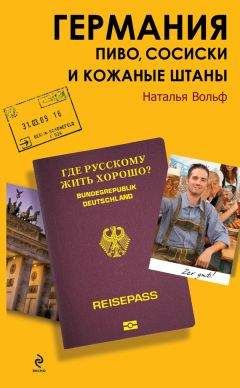Григорий Амелин - Миры и столкновенья Осипа Мандельштама
Символика троичности (будь то конфессиональное триединство иудаизма, эллинства и христианства, заглядывание в прошлое и будущее из настоящего или трехязычье послания капитана Гранта) распространяется на саму структуру “Канцоны”. Она построена по принципу светофора:
До оскомины зеленая долина. ‹…›
Две лишь краски в мире не поблекли:
В желтой – зависть, в красной – нетерпенье.
Оскомина последней мировой краски – зеленой означает, что она есть в сигнальной системе поэтического движения, но не “включена”, не прозвучала, заглушенная красным и желтым цветом. Именно “зеленая долина” – объект столкновений и истолкований, символизирующий свободу и беспрепятственно-скоростную доставку в любой пункт вселенского вояжа. В нотной записи этот поэтический светофор будет выглядеть как терцовый аккорд, уже регулировавший движение пастернаковской “Венеции”:
В краях, подвластных зодиакам,
Был громко одинок аккорд.
Трехжалым не встревожен знаком,
Вершил свои туманы порт.
(I, 435)
Как дантовская терцина и пастернаковский аккорд, зрительная система “Канцоны” трехчастна. Чем же кончается стихотворение? Удастся ли автору увидеть “банкиров горного ландшафта”, “держателей могучих акций гнейса”? Это остается под вопросом. Ландшафт у Мандельштама всегда физиогномичен. В данном случае ландшафтное лицо, в которое напряженно вглядывается автор, имеет одну немаловажную особенность – у него нет глаз и рта. Слепой и немой ландшафт. Колючий, небритый и сморщенный. Завистливый и нетерпимый. Происходит разрушение структур взаимного зрения – непременного условия видения у Мандельштама, и не только видения, но и самого существования в мире. В итоге – не гармоническое единство, а предельное отчуждение от окружающей действительности. Но автор остается единственным носителем этого изначального, невоплотившегося единства. Пейзаж скукоживается, и лишь автор объединяет в своем зрении ростовщическую силу (“культура”) и гнейсовую природу бинокля Цейса (“природа”) , и в этом смысле поэт – единственный гарант и провозвестник грядущего синтеза, его спасительный залог. Даже когда “всё исчезает”, пожираясь вечности жерлом, то – вопреки Державину – остается “певец”. Как говорил Набоков: “…Однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда” .
В мандельштамовской статье о Михоэлсе (1926) есть один эпизод, в шагаловском духе. Длиннополая еврейская фигура на фоне ландшафта, но эта растопыренная, движущаяся фигурка предельно отрешена от невзрачного белорусского пейзажа, выбивается, царапает его. Как и герой “Канцоны”, этот “единственный пешеход” полностью отчужден от окружающего мира. Но вот странность, замечает Мандельштам, без него , каким-то непостижимым образом, этот ландшафт лишился бы своего единственного оправдания.
А ВМЕСТО СЕРДЦА ПЛАМЕННОЕ MOT
(ОБ ОДНОМ МЕТАЯЗЫКОВОМ ЭЛЕМЕНТЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА)
Кто звал меня? – Молчание. – Я должен того, кто меня звал, создать, то есть назвать. Таково поэтово “отозваться”.
Марина Цветаева
Non si est dare primum motum esse…
Dante Alighieri. “Divina Commedia”
Нет никакой новизны в том, что поэты пишут словами о словах. Эта метаязыковая обращенность слова на себя – общее место для филологической мысли.
Но всегда ли мы слышим это?
По признанию Маяковского, он – “бесценных слов мот и транжир” ( I, 56) . Красное словцо поэта, игра на франц. mot (“слово”) была услышана. Но дальше этого, кажется, дело не пошло, хотя игры с mot, “выборматывание слов” (Белый), – существеннейшая часть самоопределения поэтического сознания начала века и, кроме того, – ключ к пониманию многих отдельных текстов.
Борис Пастернак так описывал своего литературного двойника, героиню “Детства Люверс”, при ее первом столкновении с безымянным миром и обретением имени:
“Зато нипочем нельзя было определить того, что творилось на том берегу, далеко-далеко: у того не было названия и не было отчетливого цвета и точных очертаний; и волнующееся, оно было милым и родным и не было бредом, как то, что бормотало и ворочалось в клубах табачного дыма, бросая свежие, ветреные тени на рыжие бревна галереи. Женя расплакалась. ‹…› Объяснение отца было коротко:
– Это – Мотовилиха. Стыдно! Такая большая девочка… Спи.
Девочка ничего не поняла и удовлетворенно сглотнула катившуюся слезу. Только это ведь и требовалось: узнать, как зовут непонятное, – Мотовилиха . ‹…› В это утро она вышла из того младенчества, в котором находилась еще ночью” (IV, 35-36).
Здесь важно: кто что знает. Точки зрения автора и героини существенно отличны. Девочка получает имя, смысл которого для нее отсутствует, так как действительное установление этого смысла предполагает личную историю, которую она еще только собирается пережить. Само по себе имя еще пусто, это только начало пути, выход из младенческого состояния покоя. Пастернак же идет скорее от конца к началу, продираясь сквозь напластования имени, иллюзии и надежды, упакованные воображением в имени “Мотовилиха”. Как наблюдатель, Пастернак, сам оставаясь ненаблюдаемым и скрытым, находится между возможностью наблюдения того, о чем можно говорить, и невыразимостью того, о чем он вынужден молчать.
Мотовилиха – реальный топоним. Но для Пастернака это не имя места, а место самого имени, некая исходная топологическая структура рождения имени, сохраняющаяся во всех преобразованиях. Русско-французский каламбур позволяет открыть в имени Мотовилиха что-то, к непосредственной номинации не относящееся, а именно – структуру имени как такового, а не именем чего оно является. “Бормотание”, также фигурирующее у Пастернака, – первородный гул, шум, из которого рождается слово, и одновременно – само слово, mot. Вернее, это уже не шум, но еще и не язык. В “Начале века” А.Белого: “…Я – над Арбатом пустеющим, свесясь с балкона, слежу за прохожими; крыши уже остывают; а я ощущаю позыв: бормотать; вот к порогу балкона стол вынесен; на нем свеча и бумага; и я – бормочу: над Арбатом, с балкончика; после – записываю набормотанное. Так – всю ночь…” .
Важно, что само пастернаковское называние – зов и вызывание непонятного, алкание безымянного (“как зовут непонятное…”). Этим зовом манифестируется уход в собственное первоначало, т.е. в молчание. Удел поэта – “окликать тьму” (I, 240). Когда Марина Цветаева пишет: “…Имя – огромный вздох, / И в глубь он падает, которая безымянна” ( I , 284), – это не просто красивая метафора. Лингвоцентричность нашего сознания не позволяет ухватить фундаментальной интуиции этого парадоксального определения. Что значит эта деструкция имени, превращение его в ничто, вздох, пустое место? Причем речь идет об имени Анны Ахматовой. Она, как известно, была именным указом акмеизма. Ее имя олицетворяло целое направление: “Самое слово “ акмеизм” , – вспоминал Пяст, – хотя и производилось ‹…› от греческого “ акмэ” – “ острие” , “ вершина” , – но было подставлено, подсознательно продиктовано, пожалуй, этим псевдонимом-фамилией [ Ахматовой ]”.
Полный и безымянный вздох собственного имени делает Гейне в “Мемуарах”: “Здесь, во Франции, мое немецкое имя Heinrich перевели тотчас же после моего прибытия в Париж как Henri, и мне пришлось приспособиться к этому и в конце концов называть себя этим именем, оттого, что французскому слуху неприятно слово Heinrich и оттого, что французы вообще устраивают все на свете так, чтоб им было поудобнее. Henri Heine они тоже никак не могли произнести правильно, и у большинства из них я называюсь мосье Анри Эн, многие сливают это в Анрьен, а кое-кто прозвал меня мосье Un rien” ( IX , 234). За глубочайшей иронией – ясное понимание того, что имя отбрасывает тень. Оборотная сторона, решка имени – ничто, пустяк, игра в капитана Немо. Таков “Ник. Т-о” Анненского .
Имя – это не то, что дано, неразложимо и конвенционально просто. Имя как знак может быть заменено другими знаками, и оно исчезает в своем употреблении. В литературе имя превращается в сложно организованную и непрозрачную символическую структуру. Оно кристаллизует в себе единство понимания того, что называет. Слово не пропускает света. Оно еще должно свершиться, стать, произойти как событие в мире. Оно заново рождается и устанавливается этим безымянным вздохом. Имя рождается, а не присваивается. Произведение имени и произведение именем самого творца – вот негласное правило литературы. Вяч.Иванов назвал как-то молчание математическим пределом внутреннего тяготения слова. За этим пределом и рождается имя.
Хлебников наиболее разнообразен в освоении mot. И недаром в стихотворении о мироздании, творимом именами великой классики, он пишет: “О, Достоевский – мо бегущей тучи, / О, пушкинноты млеющего полдня. / Ночь смотрится, как Тютчев…” ( II , 89). Маленькое “натуралистическое” стихотворение Хлебникова, посвященное бытию слова: