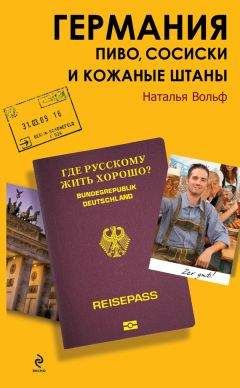Григорий Амелин - Миры и столкновенья Осипа Мандельштама
Это бытие сокрытого божества, которое смотрит на тебя и содержит то, с чем ты еще не воссоединился. Оно жаждет высвобождения. И выходящая на поверхность порода – не материальное образование, а образ самопроявляющейся сущности:
Но что ж от недр земных родясь произошло?
Любезное дитя, прекрасное Стекло
.
“Меня, – признается Мандельштам, – все тянет к цитатам из наивного и умного восемнадцатого века, ‹…› из знаменитого ломоносовского послания:
Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые стекло чтут ниже минералов .
Откуда этот пафос, высокий пафос утилитаризма, откуда это внутреннее тепло, согревающее поэтическое размышление о судьбах обрабатывающей промышленности…” (II, 266).
Ремесленная обработка и шлифовка стекла остались бы совсем за кадром, если бы не “луковицы-стекла”, связанные со Спинозой. В “Египетской марке” (1928): “Сначала Парнок забежал к часовщику. Тот сидел горбатым Спинозой и глядел в свое иудейское стеклышко на пружинных козявок” (II, 476 ). Культурная традиция прочно связывала образ Спинозы с обрабатываемым стеклом. Лейбниц о Спинозе: “Известный еврей Спиноза ‹…› был по профессии философом и вел тихую и совершенно одинокую жизнь, его ремесло состояло в шлифовании оптических стекол и изготовлении очков и микроскопов”. Как бы ни был мифологизирован образ реального Спинозы, Мандельштам реализовывал его (реализовывал – во всех смыслах этого слова) в своем поэтическом опыте. Спиноза соединял в себе мыслителя и ремесленника, рукотворный опыт и чистое умозрение. Таким образом, перед нами иудейское и мыслящее стекло, мыслящее в той мере, в какой руки у Мандельштама всегда видящие, зрячие. И вот это иудейское мыслящее стекло – “бинокль прекрасный Цейса” – прозорливец Зевес получает от царь-Давида, в свою очередь передавая псалмопевческий дар видения автору, который любит военные бинокли .
В записных книжках к “Литературному портрету Дарвина” Мандельштам помечает: “Глаз натуралиста обладает, как у хищной птицы, способностью к аккомодации. То он превращается (а превращение всегда связано с вращением – Г.А., В.М.) в дальнобойный военный бинокль, то в чечевичную лупу ювелира” (I II, 395 ). Бинокль, лупа, кодак и т.д. – это не законченные, устоявшиеся предметы, а подвижные формы, “орудийные метаморфозы”, всегда сохраняющие возможность превращения в другой предмет. Этот ряд превращений напоминает устройство приборов в оптическом эксперименте, где по ходу светового луча в различном порядке выстроены зеркала, линзы, призмы и т.д. Конечно, это только аналогия. Важно лишь подчеркнуть, что мандельштамовские “оптические средства” – выстраиваясь ли друг за другом, встраиваясь ли друг в друга – существуют не отдельно, а как единое целое.
Но какой в этом толк? С чем связано превращение горной породы в бинокль Цейса? Зачем поэту бинокль и что он собирается увидеть?
Мандельштам вполне согласился бы с Мерло-Понти в том, что мир таков, каким мы его видим, но необходимо учиться его видеть. Гетеанский дидактиль и дисциплина Андрея Белого – “воспитание глаза”. Достичь новых способов видения можно лишь созданием специальной оптики, устройств особого рода, поэтических органов, которые не являются продолжением или удвоением органов физического зрения. Мандельштам пишет о Данте, одновременно характеризуя и себя: “Дант никогда не вступает в единоборство с материей, не приготовив органа для ее уловления, не вооружившись измерителем для отсчета конкретного каплющего или тающего времени. В поэзии, в которой все есть мера и все исходит от меры и вращается вокруг нее и ради нее, измерители суть орудия особого свойства, несущие особую активную функцию. Здесь дрожащая компасная стрелка не только потакает магнитной буре, но и сама ее делает” (II I, 221-222).
В поэтическом мире Мандельштама бинокль Цейса и превращается в символическую структуру, орудие особого свойства. Мамардашвили называет такие орудия и активные измерители “артефактами”. Гете писал: “Животных учат их органы, говорили древние; я прибавлю к этому: также и людей, хотя последние обладают тем преимуществом, что могут, в свою очередь, учить свои органы”. Артефакты располагают нас в каком-то ином времени и пространстве и создают измерения сознательной жизни, которые естественным образом нам не свойственны. Артефакт – не искусственная приставка, механический усилитель зрения, вроде реального бинокля Цейса в реальном мире, а элемент и условие самого видения или – в терминологии Мандельштама – “в гораздо большей степени явление внутренней секреции, нежели апперцепции, то есть внешнего восприятия” (III, 200) . Поэтический бинокль создан, а не получен, и созданный однажды не может сохраняться сам по себе, а нуждается в непрерывном воссоздании. Белый даже выдумает глагол “биноклить”. “Поэтическая речь создает свои орудия на ходу и на ходу же их уничтожает” (I II, 251).
Автор – не наблюдатель, а соучастник, но в чем же он соучаствует? В каких-то событиях понимания, которые не могут быть получены вне символической структуры артефакта. Мандельштамовский мир – это не мир законченных событий, устойчивых атрибутов и прямых перспектив. Взгляд – это “акт понимания-исполнения” (II I, 217 ), а не пассивная аффицированность миром. “Глаз ищет формы, идеи ” (III, 20 6), но эта форма не предшествует акту понимания, а исполняется, выполняется в самом акте видения. Понимание, индуцированное внутри артефактного, орудийного пространства зрения, само в свою очередь только и делает его возможным. Подобно стрелке, которая не обнаруживает магнитную бурю, а создает ее, бинокль не отражает или приближает облик ландшафта, а являет лик бытия. Марина Цветаева выводит формулу тождества бытия и видения – “быть-видеть”, с очень характерной пунктирной растяжкой зрения:
Глаза вски – ды – вает:
– Была-видела? – Нет.
( II, 134)
Там, “где глаз людей обрывается куцый”, у поэта, по Маяковскому, – “широко растопыренный глаз” и возможность “вытянуться отяжелевшему глазу” ( I , 185, 187, 178). В своем путешествиии “Ветер с Кавказа” Белый писал: “…Художественная ориентация (знаю то по себе) так же необходима, как и практическая; вторая ориентация – удел путеводителя; но знание о поездах, гостиницах, путях и перечень названий – лишь подспорье для большего; большее – умение подойти к открывающейся картине мест; мало видеть; надо – уметь видеть; неумеющий увидеть в микроскопе напутает, это – все знают; не знают, что такой же подход необходим и к природе; мне приходилось видеть людей, скучающих у Казбека; они говорили: “здесь – нечего делать”. И это происходило не от их нечуткости, а от неумения найти расстояние между собой и Кавказом. Каждая картина имеет свой фокус зрения; его надо найти; и каждая местность имеет свой фокус; лишь став в нем, увидишь что-нибудь” .
Значит, Мандельштам ищет не другое место, а фокус зрения. “Глаз-путешественник” всегда в движении. Взгляд обладает своей плотностью и протяженностью (“я растягивал зрение, как лайковую перчатку…”), мерой и познавательной силой. Бинокль Цейса – символическое тело взгляда в “Канцоне”. У Данте:
Non ti maravigliar: che cio procede
Da perfetto veder, che come apprende,
Cosi nel bene appreso muove ‘l piede.
[ Не удивляйся; это лишь растет
Могущественность зренья и, вскрывая,
Во вскрытом благе движется вперед .]
Случаясь и располагаясь в акте видения, пропитывая им себя, автор пытается проникнуть в невидимую даль будущего и разгадать собственную участь. Только испытанием, а не посторонним наблюдением открывается истина о мире. И это испытание зрением, с одной стороны, врастает в авторскую судьбу (“чтобы зреньем напитать судьбы развязку”), а с другой – является как акт понимания элементом и частью самого мира, самого бытия:
Узел жизни, в котором мы узнаны
И развязаны для бытия.
(III, 130)
Бытийное завязывание и развязывание таких узлов и составляет суть мандельштамовской метафизики. “Музыка и оптика образуют узел вещи”, – утверждает он (II I, 241 ). Бинокль и есть такая вещь-узел, солнечное сплетение псалмопевческого голоса и богоподобной прозорливости . Единый континуум “зрения – слуха – осязания – обоняния и т.д” задается, с одной стороны, идеей того, что “видеть, слышать и понимать – все эти значения сливались когда-то в одном семантическом пучке ” (III, 185) , а с другой – обеспечивается постоянным межъязыковым оборотничеством ключевых значенией: “Глаз” = глас, голос; нем. Glas – 1). “стекло”, 2). “очки”, 3). “бинокль”; Glaslinse, – “оптическое стекло”; Zeib glas – “бинокль Цейса”. ( Мандельштамовские “луковицы-стекла” пребывают в родстве с английским взглядом, они “смотрят” – “ look”.) По Пастернаку: “Всегда перед глазами души (а это и есть слух) какая-то модель, к которой надо приблизиться, вслушиваясь, совершенствуясь и отбирая” (IV, 405).