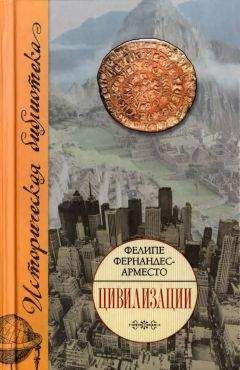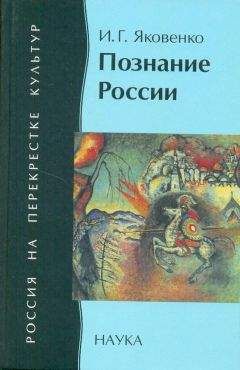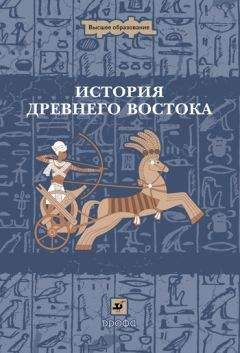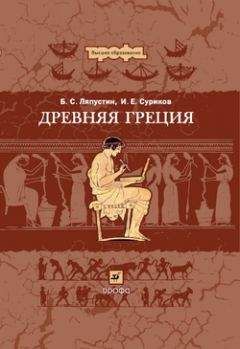Валерий Леонов - Пространство библиотеки: Библиотечная симфония
б) по вертикали этот текст следует читать синхронно; он описывает гармонические комбинации звука — аккорды и фразы, — которые должны извлекаться разного рода инструментами одновременно. Помимо упомянутых двух основных осей полная партитура содержит разнообразные указания дирижёру относительно темпа и тональности, что должно помочь ему в интерпретации текста.
Музыка как целое делится на «части», которые соотносятся друг с другом эстетически, а не посредством ясно обозначенной связи. Элементы темы из одной части произведения могут появиться, в прямой или транспонированной форме, в другой части. Для разбирающегося в музыке слушателя каждая её фраза, каждая часть и вся симфония в целом образуют систему взаимосвязанных элементов. Всё исполнение может занимать час, однако передача послания осуществляется так, как если бы все произошло одномоментно.
2. Помимо законченной партитуры, в которой музыка записана целиком, имеются ещё отдельные листы партитуры для каждой группы оркестровых инструментов — флейт, гобоев, первой скрипки, второй скрипки, духовых, барабанов и т.д. и т.п. Каждая такая партитура относится к «мелодической» линейной форме (а), приведённой выше. Но звук, производимый одним инструментом, играющим в отдельности, не создаёт музыкального смысла. Только когда инструменты играют в комбинации друг с другом, подчиняясь командам дирижёра, подаваемым на языке жестов, — получается осмысленная музыка.
3. Каждый инструменталист прочитывает свою партитуру глазами. Но затем он превращает указания, получаемые от письменного текста, в сложные движения рук, пальцев, губ и т.д. в соответствии с техникой, требуемой для игры на его инструменте.
4. Дирижёр действует сходным образом, но ему приходится читать полную оркестровую партитуру всю сразу. Он должен мыслить в нескольких измерениях одновременно, поддерживая как линейный поток общей музыки, разворачивающийся в диахронной последовательности, так и гармоничное сочетание игры разных инструментов (обеспечивая последнее тем, что все музыканты «выдерживают ритм»).
5. Сочетание звуков, производимых в результате этого набора визуальных и мануальных действий, исходит из оркестра в виде комплекса звуковых волн. В такой форме звуки в конечном счёте достигают ушей слушателей и уже в их сознании вновь становятся впечатлением от музыки, не полностью (надо надеяться) отличном от «послания», которое Бетховен намеревался передать изначально.
Приведённый пример, — подытоживает Э. Лич, — может служить общей парадигмой для проведения любого ритуала — причём сразу в нескольких измерениях. Во-первых, слушателей оркестра интересует только то, что делают все инструменталисты и дирижёр вместе. Значение музыки следует искать не в «мелодиях», издаваемых отдельными инструментами, а в сочетании таких мелодий, в их взаимоотношениях и в том, каким образом отдельные наборы звуков превращаются в разные, но связанные формы… Исполнители и слушатели — одни и те же люди. Мы участвуем в ритуалах для того, чтобы передать коллективное послание себе же самим» (С. 56-58).
Давайте ещё раз вникнем в размышления Э. Лича. Мне думается, что его интерпретация исполнения симфонии уместна и при изучении библиотечной коммуникации и имеет к ней прямое отношение. В пространстве библиотеки, содержащей послание человеку, мы различаем по крайней мере два элемента, а именно собрание текстов и порядок, правила доступа к ним, то есть синтаксис. Формируя фонд и строя синтаксис, надо предусматривать возможные их сочетания. Иначе говоря, мы должны многое знать о научном и культурном окружении, в котором существует библиотека, прежде чем определится её выбор правил доступа к текстам.
В акте коммуникации передача смысла сообщения достигается тем же способом, каким дирижёр оркестра передаёт информацию своим слушателям. В отличие от автора книги, который передаёт её через свой текст. Возможно, подобную ситуацию имел в виду и К. Поппер, когда писал о том, что для обыкновенного человека «… всегда характерно в значительной степени неправильное понимание и неправильное истолкование книг… Человек, который понимает книгу, — редкое создание»[61]. Комментируя этот тезис Поппера, подчеркну, что неправильное понимание текста случается не только у незнакомых с автором читателей, но и у людей, которые постоянно и творчески общаются. Например, как это было у поэта Александра Блока и непременного секретаря Академии наук академика Сергея Ольденбурга.
12 марта 1918 г. А. Блок в официальном конверте получил от С. Ольденбурга письмо. «Вчера случайно имел возможность прочитать Вашу поразительную поэму “Двенадцать”. Не могу нигде достать её и потому обращаюсь к Вам с большой просьбой дать мне её, если у Вас сохранился лишний экземпляр. По праву читающего, сотворца пишущему, я её понял по-своему, и, по-видимому, как мне говорят, не так, как Вы. Мне было бы очень жаль, если бы моё понимание, вернее чувствование и переживание, было бы другое, чем у автора, но это не остановило бы меня. Только ничтожное может понято единообразно, а где даже только две грани, уже, по крайней мере, два понимания. А то, что создали Вы, так удивительно, так дивно прекрасно, что мой глаз не может перечислить этих граней, которые блещут, сверкают, так их много. Чувством чувствую, что Вы писали не то, что написано, но, кажется мне, прочесть Вы сможете то, что написано в том, что писали Вы»[62].
Возвращаясь к описанию симфонии у Э. Лича, выделю ещё один аспект коммуникации в музыке — исполнительский. Дмитрий Дмитриевич Шостакович однажды сказал, «что ни одно исполнение его произведений ни у кого из исполнителей не звучало так совершенно, как в его голове»[63]. В любом исполнении есть всё: и завязка, и кульминация, и заключение. Опытный музыкант умело ведёт слушателя от начала до конца произведения, от одного «узла» тематического развития до другого, сосредотачивая внимание на одних деталях и жертвуя другими во имя цельности общего замысла.
Цельность формы достигается у исполнителя не только интуитивным путём, но и при помощи тонкого расчёта. Подтверждением этого могут служить воспоминания М. Шагинян об игре С.В. Рахманинова: «… один раз во время антракта, когда в зале стояла буря неистового восторга и трудно было пробраться через толпу, войдя к нему в артистическую, мы увидели по лицу Рахманинова, что сам он в ужасном состоянии: закусил губу, зол, желт. Не успели мы раскрыть рот, чтоб его поздравить, как он начал жаловаться: наверное он выжил из ума, стареет, его нужно на слом, надо готовить ему некролог, что вот был музыкант и весь вышел, он простить себе не может и т.д.: «Разве вы не заметили, что я точку упустил? Точка у меня сползла, понимаете»! Потом он мне рассказал, что для него каждая исполняемая вещь — это построение с кульминационной точкой. И надо так размерять всю массу звуков, давать глубину и силу звука в такой чистоте и постепенности, чтоб эта вершинная точка, в обладание которой музыкант должен войти как бы с величайшей естественностью, хотя на самом деле она величайшее искусство, чтоб эта точка зазвучала и засверкала так, как если б упала лента на финише скачек или лопнуло стекло от удара, словом, как освобождение от последнего материального препятствия, последнего средостения между истиной и её выражением. Эта кульминация, в зависимости от самой вещи, может быть и в конце её, и в середине, может быть громкой или тихой, но исполнитель должен уметь подойти к ней с абсолютным расчётом, абсолютной точностью, потому что если она сползёт, то рассыплется всё построение, вещь сделается рыхлой и клочковатой и донесёт до слушателя не то, что должна донести. Рахманинов прибавил: «Это не только у меня, это Шаляпин тоже так переживает. Один раз на его концерте публика бесновалась от восторга, а он за кулисами волосы на себе рвал, потому что точка сползла»[64].
… Синтаксис библиотеки — не метафора. В любой библиотеке создаётся свой порядок, своя система доступа к фондам, где синтаксис-отражение пространственной структуры библиотеки. Он — форма воплощения библиотеки как культурной памяти человечества. Синтаксис библиотеки напоминает скорее человеческий разум, интеллект, чем механическую систему. Если есть сознание, разум, есть и душа, а где душа, там, говоря словами О. Мандельштама, есть и порыв, порывообразование. И снова возникла тема «пересечения» библиотековедения и литературоведения. Надо пояснить.
В «Разговоре о Данте» О. Мандельштам впервые в поэзии обосновал «теорию порыва»[65]. Порыв — это не наитие сверху, порыв рождается словом, но он не исчерпывается ни семантикой, ни сам собою. В порыве конкретизируется совпадение слова с предметом, с действительностью, порыв призван будить нас и встряхивать «на середине слова». Вот как пишет о порыве сам автор: