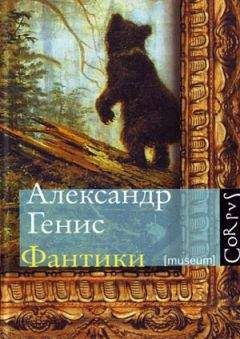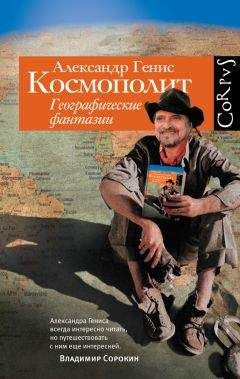Александр Генис - Вавилонская башня
За всю свою историю человек еще не сталкивался с искусством в столь концентрированном виде, как в Голливуде. Никогда еще искусства не было столь много, и никогда оно не было так могущественно. Знаком этого величия кажется готовность, с которой Голливуд выдает чужакам свои секреты. Зрителю — бывшему и будущему — охотно демонстрируют все способы, при помощи которых его надувают фальшивыми землетрясениями, липовыми пожарами и фиктивными наводнениями. Фокус с разгадкой — нонсенс, разоблачение трюка уничтожает его смысл. А в Голливуде все секреты — на продажу. Бесстыдно обнажая перед туристами свое устройство, он уверен, что зритель все равно никуда не денется. Голливуд как бы перерос самого себя. С достигнутых им заоблачных высот уже безразличны мелкие секреты его внутреннего устройства — махинации жрецов не компрометируют величия их божества. Голливуд так охотно выдает свое секреты потому, что они не имеют отношения к его тайне. Пусть мы узнаем, как делается кино, но сумма приемов еще не исчерпывает целого — фильма.
В каждой из тех американских картин с многомиллионными бюджетами, которые с педантичной регулярностью завоевывают мировые экраны, мне видится наследник средневековых кафедралов. Голливудские боевики рождаются в дружном акте коллективной творческой воли. Ну у кого хватит терпения досидеть до конца бесконечных титров, куда все равно не попали главные его авторы — зрители, оживившие своим сопереживанием этот призрачный монумент?
Успешный фильм — как сын полка, выбившийся в Наполеоны. Он является народу в сопровождении торжественной процессии жрецов — актеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры. К нему тянутся журналисты, критики, интервьюеры, адвокаты и сплетники, его окружают мелкие бесы коммерции, торгующие киношными амулетами — значками, майками, игрушками. Но все это лишь строительные леса, пристройки, которые нужны, чтобы возвести грозящую небесам вавилонскую башню — фильм, который подчинит и объединит миллиарды разноликих и разноязыких зрителей.
Что с того, если голливудский боевик заклеил пустоту дешевыми штампами? Голливуд — пряничный домик в сто этажей, это настоящий небоскреб, построенный из леденцов. Именно так: с одной стороны из леденцов, но с другой — настоящий, с окнами, стенами, лифтом и водопроводом.
В этом парадоксальном сочетании банальности с гигантоманией — источник чудотворной энергии, преображающей комикс в миф. Секрет успеха в масштабе — даже снобу трудно назвать пошлой пирамиду Хеопса. В фильме, достигшем критических размеров боевика, начинается неуправляемая мифотворческая реакция: картина сама по себе наращивает мифологемы.
На моих глазах такое произошло с приключениями человека-летучей мыши, с «Бэтменом», обе серии которого надолго приковали к себе внимание страны — во всяком случае, иракскую войну забыли скорее. Для американцев Бэтмен вроде Буратино — он был всегда, его никто не придумал, он самотеком пробрался в их детство, чтобы расти вместе с ними, приспосабливаясь к ходу прогресса. У Бэтмена и не может быть автора, потому что он продукт слишком убогого воображения. Так и должно быть: великие писатели создают великие образы, слишком индивидуальные, чтобы раствориться в массовом искусстве и стать всенародным достоянием. Евгений Онегин принадлежит Пушкину, Петрушка — всем. Только забытым, второстепенным художникам дана способность зачать мифических героев: Дракулу, Франкенштейна, Шерлока Холмса, Тарзана, Бэтмена — всех тех, кто шагнул из книжных переплетов в вечную жизнь.
Так или иначе два «Бэтмена», оправленные миллионами и талантами, превратились в новозаветную и ветхозаветную притчу о природе зла. Первый фильм психологизировал комикс, введя в него христианский мотив личной свободы и экзистенциального выбора. Злодей-джокер (в исполнении лучшего актера страны — Джека Николсона) — это мятущийся дух, порабощенный богатством и причудливостью своего интеллекта. Зло тут так сложно, диалектично и запутанно, что добру и делать нечего. Зло гибнет под гнетом внутренних противоречий — оно жаждет поражения, как расплаты и освобождения. Николсон, безжалостно усложняя свой плакатный первоисточник, выводит его из поля мифологической образности в психологию — он играет Свидригайлова.
Злодей из второго «Бэтмена» близок «венецианскому купцу». Человек-Пингвин, живущий в зоопарке, питающийся сырой рыбой, говорящий (с настоящими пингвинами) на птичьем языке, он заведомо чужд нашему миру. Но, как и Шейлок у Шекспира, способен все же вызвать сострадание — до тех пор, пока прикидывается таким же, как мы. В этом варианте «Бэтмена» зло — порождение не свободы, а необходимости, обрекающей героя на преступления. Пингвин лишь притворяется человеком, на деле он другой, чужак, пришелец, птица без перьев, волк в овечьей шкуре. В сопровождении библейских аллюзий, вроде казней египетских с убиением первенцев, Пингвин врывается в мир новозаветных ценностей, обуреваемый суровой ветхозаветной жаждой мести.
Юн г говорил, что любой миф несет в себе важные психологические истины. Отсюда следует, что американскому обществу отнюдь не безразлично, какой серией «Бэтмена» оно увлекается. Впрочем, куда важнее его общая расположенность к мифологическому сознанию, к поп-религии. Сила ее в том, что она поддерживает существование параллельной вселенной искусства — пространство мифа, где, как указывал все тот же Станислав Лем, мир всегда либо дружествен, либо враждебен герою. Здесь, в темных зрительных залах наших храмов, мы находим убежище от подлинного, то есть безразличного, мира, просто не замечающего присутствия человека. Мир, лишенный умысла, кажется столь чужим и холодным, что, может быть, наша экологическая агрессия лишь попытка дать ему о себе знать, вызвать его реакцию.
Вселенная, подчиняющаяся второму закону термодинамики, движется к распаду, к энтропии — организованная энергия преобразуется в неорганизованную, порядок сменяется анархией. Мифы поп-арта, иллюзорные чудеса поп-религии — одна из немногих преград на этом безнадежном пути сползания в хаос.
На фоне народа
Хоть и не сразу, но ощущается нелепость словосочетания «массовая культура». Что-то с этим не так. Ведь культура — это нечто вроде озонового слоя, защищающего нас от голой природы. Культура, как воздух, не может не принадлежать массам.
Уничижительный характер термина связан скорее со способом производства культуры, чем ее потребления. Образ фабрики, открывшей путь в современную цивилизацию, по-прежнему тиранит наше воображение, хотя само конвейерное производство маскируется нынче куда более затейливо, заменяя индустрию сервисом.
И все же суть «фабричной» идеи, основанной на нашей взаимозаменяемости, остается прежней: мир рассчитан на одинаковых людей, с простыми, алгоритмующимися потребностями, которые так просто и удобно удовлетворять конвейеру. Только благодаря ему современная жизнь приобрела специфическое качество — дешевизну. Автоматизация охватила все сферы — быт, досуг, туризм, кухню, секс. Все составляется из готовых, фабричного изготовления блоков, как телевизор или компьютер. Даже чинить ничего не надо, только менять.
Конвейерность жизни приводит к тому, что обеспечивает личности много дешевых способов разнообразить жизнь. В реальности выбор этот во многом мнимый, ограниченный ассортиментом, бедность которого скрывают декоративные завитушки. И все же из-за дешевизны массовое общество может позволить себе постоянно структурировать время — расчленять жизнь на все более мелкие фрагменты и заполнять ими дни и годы. Конвейер и время сумел поделить на аккуратно упакованные порции, как бы приватизировал его, предоставив каждому индивидуальную делянку, на которых мы возделываем свое «время дел» и свои «часы потехи», свои будни и свои праздники.
Конвейерность, серийность приносит душевный комфорт, потому что возвращает и преумножает ритуализацию жизни. А ритуал — это покой, это замаскированная неволя, отказ от выбора и связанной с ним ответственности. Сидевшие люди часто выглядят моложе как раз на те годы, которые они провели в тюрьме, лишенные возможности что-либо выбирать. Похоже, сильнее невзгод и испытаний нас старит свобода, избавиться от которой и помогает ритуал. Сладость этого рабства знает каждый, кому приходилось обмениваться подарками или украшать новогоднюю елку.
И вот в глубинах этого стандартизованного и ритуализованного массового общества происходит культорогенез — величественный акт рождения массового искусства.
Масскульт, творческой протопоплазмой обволакивающий мир, — это и тело и душа народа. Здесь, еще не расчлененное на личности, варится истинно народное искусство, анонимная и универсальная фольклорная стихия. Уже потом в ней заводятся гении, кристаллизуется высокородное искусство. Художник-личность, этот кустарь-одиночка, приходит на все готовое. Он — паразит на теле масскульта, из которого поэт черпает вовсю, не стесняясь. Ему массовое искусство точно не мешает.