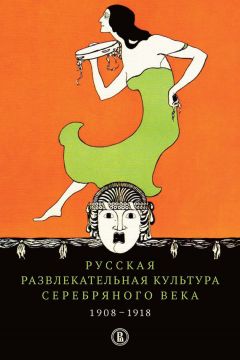Николай Богомолов - Вокруг «Серебряного века»
Но очень на многих писателей Рябушинский производил впечатление если не противоположное, то, во всяком случае, значительно более благоприятное. Практически не было желанного журналу автора, который бы демонстративно отказался от сотрудничества. Впрочем, отказывались, — но все равно время от времени сотрудничали. Даже ревниво смотревший на конкурентов Брюсов, и тот временами приходил в особняк на Новинском. Что уж говорить об остальных!
Тем более естественным выглядело согласие молодого французского поэта поехать в варварскую Москву, чтобы там заниматься важным делом, — извещать Европу об открытиях русского искусства. Другое дело, что он мало понимал в том, чем именно ему нужно было заниматься, — но это не особенно волновало ни Рябушинского, не владевшего ни одним иностранным языком, да и с русским-то не всегда справлявшегося удовлетворительно, ни самого Вальдора. В варварской стране, судя по всему, ему все виделись варварами совершенно одинаковыми, а за хорошие деньги почему было и не поскладывать французские стихи на их темы!
Уже в феврале (в марте по новому стилю) была достигнута договоренность издателя и переводчика. 8 марта старого стиля Кречетов пишет поэтессе Л. H. Вилькиной: «На днях приезжает в Москву на жительство французский поэт Вальдор, который будет переводить стихи: думаю, что уже в III № они будут с переводом»[591], — но на деле случилось это несколько позднее. О приезде Вальдора Соколов извещает ту же Вилькину 21 марта, а 31 числа — А. М. Ремизова[592].
Каково жилось тому в Москве, мы знаем довольно случайно. Вряд ли можно сомневаться, что он был принят вполне сердечно, только сердечность эта должна была, видимо, казаться странноватой. След именно такого отношения находим в рассказе Кречетова В. Ф. Ходасевичу: «2 Tarovatti и Вальдор — в Малаховке: поэта съели комары: рог на лбу, запух глаз и изъедены пятки»[593].
Но, как становится очевидным, наибольшее впечатление на него производили бесконечные пиры окружавших Рябушинского и его швыряние деньгами. Вспоминают об этом по-разному. Так, Б. А. Садовской рассказывал довольно скромно: «Дело было задумано широко. Под редакцию наняли особняк на Новинском бульваре <…> В день выхода первого роскошного номера рассыльный, принесший его издателю, получил сто рублей на чай. По четвергам на вечерних приемах сотрудникам предлагались шампанское, красное и белое вино, ликеры, сигары, фрукты, чай и лакомства. <…> Раз был я у Рябушинского в его номере в гостинице „Метрополь“. На камине в солнечной приемной красовалась большая фотография рослого хозяина с черепом в руках; на мощное плечо к нему грациозно склонялась воздушная красавица в белом платье»[594].
А вот, например, воспоминание другого автора: «По случаю годовщины существования „Золотого руна“ в начале января был устроен банкет в „боярском“ кабинете „Метрополя“. Посредине, в длину огромного стола, шла широкая густая гряда ландышей. Знаю, что ландышей было 40 тысяч штук, и знаю, что в садоводстве Ноева было уплачено 4 тысячи рублей за грядку. Январь ведь был, и каждый ландыш стоил гривенник. На закусочном огромном столе, который и описать теперь невозможно, на обоих концах стояли оформленные ледяные глыбы, а через лед светились разноцветные огни, как-то ловко включенные в лед лампочки. В глыбах были ведра с икрой. После закусочного стола сели за стол обеденный» — и т. д.[595] Правда, чинный Петербург над подобным шиком издевался. По поводу аналогичного торжества К. А. Сюннерберг вспоминал: «„Золотое Руно“ чествует Бальмонта. Приготовленные обеденные столы благоухают ландышами, которые тянутся вдоль всех столов, поставленных покоем. Приезжает Бальмонт. — „Засыпайте поэта цветами!“ — восклицает Рябушинский и первый кидает в вошедшего вырванным из земли пуком ландышей. Присутствующие подражают меценату. Но зимние ресторанные ландыши, притом только что политые, вырываются с корнями и комками земли. И вот фрачная сорочка поэта, сверкающая белизной скатерть с расставленными на ней лукулловскими яствами, и дорогие ковры, и все вокруг оказывается в грязи. С такой же неуклюжестью Рябушинский вел в течение нескольких лет и свой журнал»[596].
И все-таки — номер в «Метрополе» и постоянный стол в «Эрмитаже», на который каждое утро ставились свежие орхидеи, вилла в Петровском парке и имение в подмосковном Кучине, постоянно менявшиеся роскошные автомобили, столь же регулярно обновляемые любовницы — то француженка, то испанка и истраченные за год на журнал 84 тысячи рублей могли произвести впечатление на кого угодно. Не удивительно, что под обаяние богатства попал и молодой французский поэт.
В помощь ему была дана рассчитывавшая стать женой Кречетова начинающая актриса и немного литераторша Лидия Брылкина (по сцене и экрану — Рындина). В дневнике 28 марта она записала: «Приехал сюда француз из Парижа для сотрудничества в „Руне“ — благодаря ему и мне оказалась работа Кроме того, мне трудно подыскать бы было дело (я перевожу пословно с рус<ского> стихи, а Вальдор уже их рифмует)»[597]. И все было бы прекрасно, если бы не осложнение, связанное с характером Рябушинского.
В начала лета он отправился, по своему обыкновению, в Париж, и там выяснилось, что колоссальные усилия по переводу всех материалов журнала на французский себя не оправдывают: «Золотое руно» иноземцы читать не хотят. Уже 12 июня Кречетов сообщал Ходасевичу: «Ряб<ушинский> решил прекратить фр<анцузский> текст. № 6 — последний двуязычный. Французы еще не знают. <…> Я нахожу, что эта реформа к лучшему. Ряб<ушинский> приедет к концу июня»[598]. Через две недели сам Рябушинский писал по этому поводу Д. С. Мережковскому в только недавно оставленный Париж: «Пробыв некоторое время во Франции, где я убедился, что франц<узский> перевод пока крайне мало интересует французов, а мне доставляет неимоверный труд, я решил его наконец со второй половины года уничтожить. Получив, т. к. образом <так!> возможность отдаться вполне русской литературе, ничем ее не связывать, обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой не отказать мне просить Вас дать мне что-нибудь из Ваших вещей»[599].
Через несколько дней вследствие разных причин из числа сотрудников «Руна» ушел Кречетов и стал вести активную работу, пытаясь уничтожить журнал. Своему близкому в то время другу и верному соратнику Ходасевичу он писал: «Теперь начнем „мстить“. Что могу — уже делаю. Между нами говоря, разослал чуть не всем сотрудникам копии с моего послания Хаму, снабдив их соответственно построенными препроводительными письмами. Думаю, что дальше нового года „Руно“ не протянет. Осенью, когда народ съедется, начнем „строить козни“. Надо во что бы то ни стало прикрыть зловонную лавочку Рябушинского. И в этом направлении сделаю все»[600].
Особого вреда предприятию Рябушинского ему, конечно, причинить не удалось — слишком неравны были силы, однако шум был поднят изрядный, и судьба Мерсеро была не последним среди обвинений.
13 июля в постскриптуме письма к Л. Н. Вилькиной Кречетов пишет: «Всеобщее негодование вызывает поступок Рябушинского с Вальдором, которого он выписал на 2 года по контракту из Парижа и которому теперь, решив прекратить франц<узский> текст с № 7, отказался платить хотя бы гроши. Тот обратился к суду»[601]. В тот же день — Б. А. Садовскому: «Много говорят о бесчестном поступке Ряб<ушинского> с Вальдором, которого он выписал по контракту на 2 года, а теперь, прекратив фр<анцузский> текст со II полугодия, вышвырнул за борт без гроша. Тот подал в суд — будет скандал»[602]. 9 августа — снова Вилькиной: «Вскоре предстоит скандальный процесс Рябушинского с французским поэтом Вальдором, которого он выписал из Парижа на 2 года по контракту (тот ликвидировал во Франции все свои дела и бросил хорошо оплачиваемое Место) и которого теперь, внезапно прекратив по капризу французский текст, выбросил без гроша на улицу, не обращая внимания на контракт. („Что мне контракт!.. Я не коммерсант, а художник!!!..“)»[603].
Однако Мерсеро все-таки удалось найти какой-то общий язык с Рябушинским. Уже 24 августа официальная жена Кречетова Н. И. Петровская писала В. Ф. Ходасевичу: «Вальдор, вернувшись с дачи, ежедневно заседает в „3<олотом> Р<уне>“. Вероятно, скоро „Сам“ употребит его для целей полезных. Ну, наприм<ер>, заставит калоши подавать или что-нибудь в этом роде. Ах, милые, милые литераторы!»[604]
Конечно, подавать хозяину калоши французскому поэту не пришлось. А. А. Курсинский вспоминал, что в конце концов ему была выплачена неустойка за неисполнение контракта — полторы тысячи рублей (т. е. жалованье составляло немалую сумму в 250 рублей ежемесячно)[605]. В позднейшей заметке читаем: «Вместе с Н. П. Рябушинским он устраивал выставки французской живописи в Москве, Киеве, Одессе»[606]. Собственно говоря, из таких выставок мы знаем лишь одну, прошедшую в Москве с апреля по июнь 1908 года под названием «Выставка картин „Салон „Золотого руна““». Как пишет биограф Рябушинского, «…сам Николай Павлович выставил произведения французских художников из своего собрания <…>. Вся остальная масса работ французских мастеров была доставлена из Парижа. Большая заслуга принадлежала здесь сотруднику „Золотого руна“ Александру Мерсеро, выступившему энергичным посредником между своими соотечественниками и их русскими коллегами»[607]. Конечно, он был далеко не единственным, кто готовил выставку: и Г. Таете вен жаловался, что из-за хлопот по ее организации оказываются запущенными дела журнала, и сам Рябушинский не преминул лишний раз съездить в Париж, — но роль Мерсеро была очевидной.