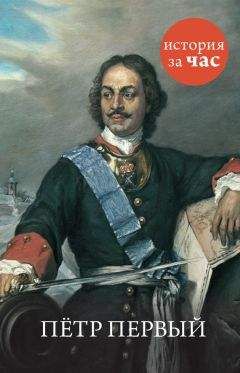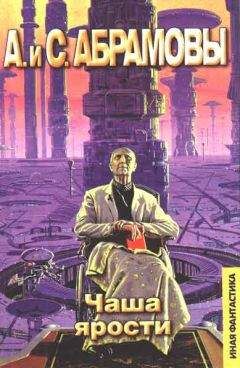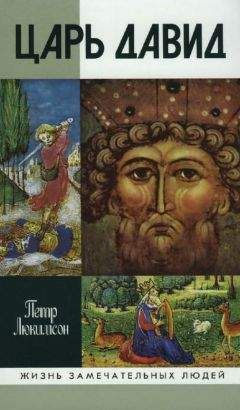Ольга Мехти - Монарх и Узник
В девятом классе я опять столкнулась с откликом вой ны. У нас среди учебного года появилась крутобокая и краснощекая русская девочка с длинной черной косой и туркменской фамилией. Ее мама после фронта осталась в госпитале, там выходила контуженого офицера-туркмена, он полюбил русскую сестричку. Смешанные браки. Это еще одна страница в русско-туркменских отношениях. Всем казалось это правильным, даже наука подсобила, объявив, что чужая кровь облагораживает местных жителей. И мы верили. Было время, когда каждый выдвиженец из туркмен должен был иметь русскую жену, чтобы она его «окультуривала», это было, так сказать, входным билетом в советскую элиту. Впрочем, и сегодня туркменские юноши берут в жены русских девушек, но это по любви. А можно сказать и по-другому: русские девушки выбирают в мужья местных «амиго». Но теперь власти не очень приветствуют такие браки. Сын моей знакомой, талантливый парень, текинский красавец и богатырь, но имеющий в паспорте фамилию русского отца, так и не смог поступить в туркменский вуз. Сказали, меняйте фамилию… Но что она, политика, там, где правит любовь.
В «смешанном» браке родились дети первого Президента Туркменистана. Я дружила с детьми из туркменско-русских семей. Их самих, и детей, и внуков ожидала такая же печальная судьба, как и обычных русских переселенцев. Они по-прежнему носят туркменские фамилии и европейскую одежду, игнорируя негласный высочайший приказ отделам кадров — на фото для документов всем девушкам и дамам быть только в бархате с вышивкой и непременно в желтом платке. Русские туркмены доживают свой век на очень скудную пенсию и безмерно счастливы, если удалось хоть одному внуку дать высшее образование. Русская дочь одного «циковского» долго жила продажей галстуков из папиной большой коллекции, раньше-то все дарили мужчинам галстуки, а тем, кто на должности, так только импортные. Но и галстуки у нее уже закончились…
Возвращение…
Во мне, полукровке, только пятьдесят процентов русской крови, но она в детстве бурлила на все сто, когда дело касалось русской истории на моей родной земле. Завораживали рассказы о русском поселке Гермаб в горах, где течет теплая речка, а по весне пышно цветут вишневые сады, посаженные русскими, которые пришли с имперскими войсками и остались. В советское время поселок на границе с Ираном закрыли. Гермабцы заколотили окна и двери своих добротных домов и по приказу перебрались в долину в Геок-Тепе. Там они вновь построили дома, посадили сады. Остались от гермабских русских блекло-желтые фотоснимки в уже пожухлых паспарту с вензелями владельцев фотоателье. На одном даже сохранился адрес такого заведения — «Асхабад. Куропаткинский пр., угол Комаровской, д. Исхановой». Туда как-то зашла молодая поселянка, дочь казака. Фотограф картинно разложил складки ее пышной юбки, чтобы приоткрыть кокетливые ботинки на тугой шнуровке, положил ее пухлую ручку в кружевах на полированный подлокотник бархатного креслица с изогнутыми львиными лапами. И вот она уже больше века с напряженным вниманием ждет, когда вылетит птичка из черного глаза аппа рата. Уже работая в СМИ, с большим трудом, но получила пропуск в погранзону, дождалась оказии — компании охотоведов и лесоводов — и отправилась в путь с надеждой увидеть дома тех людей с выцветших фото. Ах, как я была тогда молода! И безрассудна настолько, что не могла себе позволить показаться среди неизвестных мне ученых в старых сапогах. Конечно, я надела новые итальянские, только что купленные мамой на ашхабадской толкучке по неимоверно высокой цене. Они были голубыми. Как раз по весне, говорила я себе, и этим утопила без труда остатки своей разумности. В горном поселке я осмотрела руины церкви и других каменных построек. Мне показали, где была гимназия, а где — училище. Я вдоволь настучалась в мощные двери толстокаменных домов, потрогала все сохранившиеся кружевные наличники. Старалась до сумерек успеть налюбоваться родниками, разлившимися в озеро, дающее начало многим рукавам Секизяба — речки, которая многие века орошает земли в горах и на подгорной равнине, в Геок-Тепе уже бежит по трубам. И в это время пошел снег. Неожиданный, весенний. Было тепло, но снежинки-пушинки быстро запорошили волосы. Не скоро холод почувствовали мои ноги. Высокие голенища еще держались на ногах, а кожаные подошвы отклеились и собирались уплыть… Так в чулках я дотопала по заснеженной земле до старинного здания, где жили работники лесного кордона. Сутки лежала с высокой температурой и в бреду ненавидела докрасна раскаленную буржуйку, около которой меня уложили заботливые спутники. Проснулась от неожиданной прохлады. Рука сжимала яблоко. Открыв глаза, с восторгом увидела огромное керамическое блюдо, на его плоском дне в снегу утопали краснобокие яблочки. Наутро я, уже вполне здоровая (молодость творит чудеса), прощалась с теплой компанией и в старых солдатских сапогах возвращалась в Ашхабад. Попутчики рассказали мне, что вчерашние яблоки из сада губернаторской дачи. Еще родят старые деревья. И даже колесная дорога сохранилась.
В девяностых названия уже бывших русских поселков вокруг Ашхабада я вспоминала с потомками россиян, тех, кто приехал обживать туркменские земли, да и не самые лучшие земли, а неудобь, горные участки, и своим трудом превратил их в богатые колхозы. От туркмен не отделялись, а жили дружно, перенимая друг у друга лучшее. Они основали Комаровку, Янгоб, Рербергский, Романовский, Нефтоновку, Ванновский — поселок, за который переживали, наверное, все добрые и искренне любящие страну люди, потому что дома с садами, и огородами, дома дачников и местных курдов, обсерватория пошли под бульдозеры, которые расчищали территорию для президентской дачи. А на вершине каждой горы поставили автоматчиков. Теперь Фирюза, эта форточка прохлады и ночной неги в знойные дни, сохранилась лишь в наших лучших снах, в книгах российских очеркистов да в воспоминаниях тех, кто приезжал туда отдыхать, а в декабре плавать в бассейне с синей водой и желтыми листьями чинар, собирать ежевику в горах и на их склонах оставлять автографы. А были еще Самсоновка, Обручевка, Михайловка, Дмитриевка, Верхняя Скобелевка и Нижняя Скобелевка. Там жили русские, украинцы, они полюбили туркменскую землю, считали ее родной. Дети «колонистов» создавали сегодняшний день Туркменистана, они учили и лечили туркмен, вместе развивали науку и культуру, но теперь вынуждены уезжать.
В Алексеевке я была лет 20 назад. Мне все было удивительным: и глиняные хатки, чуть ли не крытые соломой, голубые ставенки и пунцовые мальвы. На выложенных из камня и обмазанных глиной уступочках у ворот сидели и лузгали семечки потомки переселенцев из Харьковской губернии — ну прямо декорации для фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», только на летнюю тему. Интересно, что всегда на новом месте переселенцы стараются не потерять своих бытовых традиций, а наоборот, прилагают максимум сил для их сохранения. Сейчас почти все «алексеевские» покинули свою родную землю… Помню и немецких «колонистов» в поселке близ пограничного Серахса. Молодуха, кажется по фамилии Дорцвейлер, в чистейшем доме с выскобленными полами и белоснежными занавесками на окнах, а это, представьте, среди туркменской степи с пыльными бурями, открывала передо мной обитый железом сундук, чтобы показать восхитительно тонкое кружевное приданое ее бабушки. Наверное, в 90-е годы, когда рухнул железный занавес, и эти Дорцвейлеры, продав коров и свои домики, увезли с собой на историческую родину и сундуки, и занавески, и… туркменский язык, который будет их согревать памятью о дружной жизни с туркменами, курдами, белуджами и русскими. Повод рассказать и об ашхабадских подругах-учительницах моей деревенской мамы. Одна, из очень древнего дворянского рода, родилась в Европе, а в Баку до сих пор в сохранности их фамильные дома, но она всегда была предельно скромна, незавидно одета и неслово охотлива настолько, что на мои просьбы прояснить некоторые моменты тех исторических дней отвечала всегда: «А зачем это нужно, зачем тревожить тени прошлого?» В советское время приходилось молчать о своем аристократическом происхождении и другой учительнице. Она, хоть до глубокой старости носила пышную прическу барыни и восхищалась, правда только среди своих, родственниками — русскими офицерами, о судьбе которых не имела никаких известий, а каждое лето проводила в российских православных монастырях, она тоже привыкла держать рот за замком. Очень печально. Но их всех выдавали такт, манеры, то, что было привнесено с детства и не исчезло даже в условиях советского нивелирования личности. Я знавала в Ашхабаде многих милых старушек дворянских корней, которых повороты судьбы оставили в Ашхабаде. И со всех старалась брать пример. Ах, это невозможное сослагательное наклонение, но, сложись судьба туркмен иначе, в Ашхабаде доживали бы свою жизнь чопорные старушки— англичанки. Да, но тогда бы не было меня…