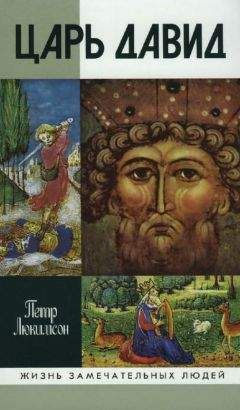Ольга Мехти - Монарх и Узник
О царском времени в Закаспии мы знали только по прежним названиям улиц. Козелковская улица, Лемкуловская, Скобелевская площадь, поселок Ванновского. Русские фамилии будоражили, как «Прощание славянки», которую всегда играл духовой оркестр на демонстрациях. Я помню, даже злилась на родителей, которым все было недосуг свозить меня в Геок-Тепе. Там же музей о русских, которые основали Ашхабад! И меньше часа на автобусе! Маргеланская, Андижанская, Кокандская, Хивинская, Бухарская — азиатская география улиц моего детства. Мама говорила, это русские так назвали. Но почему не Московская, не Воронежская? «В честь завоеванных городов…» И нас тоже завоевали?! «Тебе рано об этом знать!» Зато старая русская соседка с восторгом рассказала, что наша Свобода раньше была Куропаткинским проспектом — в честь начальника русского отряда. Он сражался вместе с «белым генералом» Скобелевым, чтобы принести нам цивилизацию. Мои любимые русские! Они убивали! Мне уже было не до «Славянки».
Однако сама Россия, российское еще долго было чем-то далеким, но прекрасно-манящим. Там жили мои русские бабушка и дедушка. Из деревни они присылали валенки, совсем не нужные нам на берегу пустыни Каракумы, но их катал дед, других подарков у них не было. Еще в большом бязевом мешке почтовой посылки были сушеный «вишник» с панского сада (о, тот загадочный панский сад!) и в старой грелке мед, чудно пахнущий духами. Мама говорила, что он лесной. «Мама, а что такое лес?!» Еще не было телевидения, но были красочные учебники. До сих пор помню про лето «…и в большом колхозном поле собирали колоски». Только в 15 лет я увидела и лес, и русское поле, и колоски, которые вылетали из комбайна моего дяди и кололи лицо и руки. А когда пошли ночевать к бабушке, я расплакалась. Где дом маминого детства, та сказочная избушка в панском саду на берегу речки? Панский сад, может быть, когда-то и был достоин восхищения, но его посадили давно, еще солдатки, когда их мужья бились с «турками», кого имели в виду российские родные, точно не знаю, ведь так в деревне до сих пор называют и туркмен. Потом сад рос совсем без пригляда, колхозникам на такую блажь не было времени. А избушка, может быть, и сказочная, но она для другого персонажа, для Бабы Яги. Печь-развалюха, узкие деревянные лавки да зеркальце, засиженное мухами и затыканное со всех сторон желтыми фотками каких-то усатых дядек в военной форме. Детей и меня положили на глиняном полу, обмазанном к нашему приезду кизяками, на каких-то вонючих овчинах. Взрослые на печке. Ни тебе ашхабадских ковров, ни тебе мягких диванов, ни распахнутых настежь окон. В сундучке, на котором спал дед, свернувшись в три погибели, хранились сокровища. Ситцевые платки да два-три кумачовых отреза, которые в конце тридцатых годов высылала им моя мама, тогда директор школы, с самого юга страны. Бабушка хранила добро всю войну — женить парней сгодится, да так и осталось все нетронутым. В тряпичном мешочке хранили горсть медалей и орденов. Еще в сундуке был «германский рипсовый» полушалок — коровы стоил. В церкви прилюдно пан накинул его на плечи моей юной бабушке — красавице и лучшей певунье в селе. Трудно было во все это поверить. Она грузная еле-еле передвигалась с клюкой и все просила: «Внученька, а внученька, надень, родненькая, юбочку подли-и-ньше». Спину надорвала на колхозных «буряках», петь уже была стара, однако была по-прежнему всеми любима. При фрицах в той же хате ночами она тайком варила самогон для партизанского госпиталя, хлебы пекла да варежки вязала. Другие боялись, а она, как рассказывала, еще в первую мировую войну маленькой девочкой вдоволь «набоялась». Дождется снегопада, ночью зароет у дуба бутыль с целительной жидкостью, а потом на том же месте партизаны мешок сахара оставят… Одна справлялась. Радовалась, что девки, это мама и тетя, в глубоком тылу, а по парням мучилась. Дедушка и дядья воевали далеко, на разных фронтах, известий о себе не давали, а про одного до сих пор так ничего и неизвестно. Даже младшенький, шестнадцати еле дождавшись, уехал на фронт — успел, пока немцы не пришли в село. А бабушка бежала и бежала вслед за поездом и кричала во все горло: «Ваня-а-а-тка!» — да потом как грохнется, еле ее откачали — так рассказывала тетка, которую в деревне звали Полячка. Мой сородич польскую девушку с Первой войны привез. А другой — на Финской руку потерял. По биографиям моих русских родственников можно военную историю изучать.
В Ашхабад, казалось, прилетела на машине времени, опередив российскую деревню примерно на век, и искренне удивлялась, а зачем русские генералы так стремились обустроить чужой край, если свои-то жили гораздо хуже? У меня копились сложные вопросы, особенно когда начали широко праздновать столетие «добровольного вхождения в состав России».
Прочитала, что русские называли туркмен «халатниками». Обиделась. Я-то до сих пор помню, как живописны были сельские туркмены в домотканых халатах и в кудрявых, будто специально завитых, барашковых папахах. В полдень они вытаскивали откуда-то маленькие коврики или кусочки кошмы и, оставшись в тюбетейке, которая была под папахой (а слово-то кавказское), прилюдно мыли ноги и руки водой из железного кувшинчика-кумгана, потом несколько раз ловко сгибались и шептали что-то про себя на непонятном языке. «Они склоняются в сторону священной Мекки», — пояснил отец, но запретил так пристально смотреть, чтобы не мешать им молиться.
Среди многих минусов политики царской империи был главный — туземцы, как тогда называли туркмен, были людьми иного сорта. При русском владычестве туркмены начали переходить на оседлый способ жизни. Но коренное население жило в основном вне пределов города, в центр приезжали из аулов лишь торговать на знаменитый текинский базар. Впрочем, так продолжалось долгие годы и при советской, читай — московской власти. Помню даже я, как селяне торговали молоком. Две оцинкованные емкости по бокам в хурджунах, а хозяйка в национальном халате, надетом рукавом на голову, увенчанную бориком (это нечто похожее на головной убор египетской царицы Нефертити), оседлав ослика, пятками в бока направляла уставшее или ленивое животное. Этих туркменок мы называли «дайза», то есть тетушка. Они же русских женщин называли «сестра». А были еще «кизимки», то есть девочки. Помню одну такую, в красном платьишке с голой шеей и стареньком пальто с чужого плеча, а на голове — чудная шапочка с торчавшей металлической пикой, и все было обмотано красным «бумажным» платком. Очень рано утром, почти в темноте, она тихонечко стучала в нашу калитку, снимала тяжеленный бидон из-за плеч и наливала молоко железной кружкой-меркой в мамин графин. Я запоминала, что «сюйт» — это молоко, а вот новое слово «аул», узнала, привезли русские солдаты с Кавказа, местные называют село «оба». Входили в обиход и другие слова: караван, арык, шашлык, саман, саксаул. Однажды девочка пришла из аула очень холодной зимой, а руки-то в кровоточащих цыпках. Мама запричитала, смазала маленькие ее пальчики маслом, перевязала новенькими тряпочками от платья, которое шила мне. Нашла вязаные перчатки. Я тогда очень жалела «кизимку» и детским умишком не понимала, почему так следует жить: русским в городе, а туркменам в селе. Но до сих пор геополитика мира во многом определяется именно таким противостоянием «цивилизации» Европы «варварству» Азии, а государственные мужи прежде великой державы и сегодня говорят о «неблагодарном присутствии азиатов в ойкумене современного мира».
Диффузия еще активнее нас смешала в шестидесятые. Шли даже слухи, что скоро отменят национальности. А мы их уже перестали различать. У меня появились закадычные подруги-туркменки. Мы все носили одинаковые джинсы, все взахлеб читали столичные журналы «Москва» и «Дружба народов», а потом «Иностранку» и передавали друг другу затертые «самиздаты», слушали вместе пластинки «Битлз». Но для Москвы мы по-прежнему считались отсталой провинцией. Даже всесторонне образованные мои первые учителя на ЦТ искренне удивлялись правильному русскому языку провинциалки, а сами путали в титрах азиатские республики — Туркменистан и Таджикистан.
После землетрясения восполнили численность населения те, кто приехал восстанавливать Ашхабад. Они обжили холмистую окраину города Гажу. Но некоторые, не влезая в исконно «персидский залив», как назывался старый район иранских переселенцев, все же умудрились уместиться в самом центре у «Текинки» маленькой улочкой глинобитных времянок, как раз на том месте, где сейчас автостоянка. Эти русские переселенцы жили бедно и очень обособленно. Для их детей «Текинка» была вотчиной, где нередко удавалось не только поживиться тем, что плохо лежит на прилавках, но и честно подзаработать. Рядом в автопарке девочки мыли салоны, а вечерами считали — переводили в рубли килограммы медной выручки водителей. Однокопеечными водители расплачивались. Текинские друзья были щедрыми, угощали на эти копейки текинскими чебуреками с зеленым луком, очень вкусными, их пекли умелые армянские женщины. Жизнью считаются моменты хорошего настроения, а хорошее настроение иногда бывает даже из-за таких мелочей, как зеленый лук в чебуреках, и потому сейчас, вспоминая об этих «текинских» днях юности, у меня опять становится хорошо на душе. В Асхабаде было два базара: для русских — Русский, для местных — Текинский. Сегодня в Ашхабаде на Русский базар, где цены кусаются, ходят за продуктами только туркмены и иностранцы, а на «Текинку» — люди победней, в основном русские. Возвращаясь в Ашхабад, я каждый раз спрашиваю: как там «Текинка», не разрушили? Это уже памятное место в истории города.