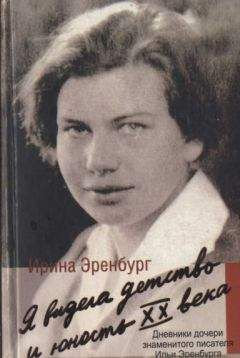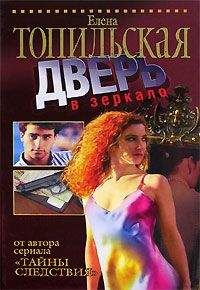Ирина Савкина - Разговоры с зеркалом и Зазеркальем
«Я хотела бы тебе лишь сказать, — пишет она Гервегу, — что чувствую себя всегда такой чистой, такой святой пред тобой, пред всеми, во всем… Быть может, это только желание быть такой, но это так! Я очищаюсь в том, что все нашли бы грязным, я горда тем, что вызвало бы презрение, я нахожу одну лини, истину в том, что другие считают ложью» (269).
Но и Герцену в разгар своей любви к Гервегу Наталья Александровна пишет в ответ на его подозрения (12 января 1850 года): «Может, я виновата во всем, может, недостойна жить или достойна быть осужденной на казнь — как кому кажется. Я чувствую себя так, как писала как-то тебе вечером, оставшись одна. Чиста перед тобой и пред всем светом, я не вынесла бы ни одного упрека в душе моей, скорей бы отдала себя на суд, кому лишь хочется судить»[547].
Одновременно она предполагает, что и между «близнецами», то есть Герценом и Гервегом, существует «чистая и святая» связь (Ланской: 292).
Тем не менее и Герцен и Гервег в этой ситуации отказываются понимать Наталью Александровну, когда она говорит о «чистоте» их взаимных отношений, и оба они считают эту ситуацию неестественной[548]. Но по письмам Натальи можно видеть, что она осмысляет создавшееся положение и собственную роль в иных, можно сказать утопических, категориях. Критерием «чистоты» является для нее искренность и естественность собственного чувства к Гервегу — вольной всепоглощающей любви в духе романов Жорж Санд. Право на свободный выбор в любви (не по расчету, не из чувства долга и т. п.) только с точки зрения «лягушачьей», то есть устаревшей, бюргерской общей морали может казаться грязным и достойным презрения. В письме к Гервегу от 6 февраля 1850 года она пишет, что слово «спускаться», «падать» в ее словаре означает «восходить»[549].
В то же время Н. А. Герцен ни на минуту не сомневается в своей искренней любви к Герцену и детям, она называет это чувство неразрывной слитостью, привязанностью.
Наталья Александровна создает некий миф, нужный ей не только для объяснения чрезвычайно усложнившейся ситуации, не только для описания и интерпретации себя и других ее участников, — внутри этого мифа она пытается жить.
Навязчивая идея, к которой она постоянно возвращается в письмах к Гервегу, состоит в том, что они трое (или четверо, включая Эмму) — близнецы, все — одно, одна семья; что их бесконечная взаимная похожесть и необходимость друг в друге позволит создать какую-то немыслимую, труднопредставимую гармонию.
Герцена она настолько не отделяет от себя, постоянно повторяя, что они — как бы один человек, одно тело («Наташа-Александр», как она писала в письмах 1830-х годов), что предлагает Гервегу любить их нераздельно. В идеале она мечтала бы о том, чтоб и Герцен любил бы их с Гервегом парой, но это все же кажется ей неосуществимым. Она постоянно высказывает опасения, что Александр не поймет и не переживет, если узнает о степени близости их с Гервегом отношений, и поэтому старается (и требует того же от Георга) как можно дольше скрывать все от мужа.
В то же время Наталья Александровна постоянно развивает в письмах и стремится осуществить в реальности утопический проект жизни единой семьей в «убежище», «пещере» на «обетованной земле» (277), в «Гнезде близнецов» (288). В ее уме возникают великолепные картины будущего рая — у моря под сенью олив. «На берегу моря будем есть устерок, будем ловить их своими руками в воде и потом отдыхать под небом вечно голубым в тени олив!» (279; см. также 280, 281, 288).
Когда Н. А. Герцен сообщает Гервегу о доме в Ницце, который был найден для совместного проживания двух семейств, она описывает его как воплотившуюся мечту: «Обитель наша хороша, — впереди море… по сторонам два маяка, внизу зелень (дом будто цветок растет из нее), а сзади горы… горы… горы… а сверху звезды…. звезды… звезды… а в доме besson’ы, besson’ы, besson’ы (близнецы, близнецы, близнецы — фр.)» (294).
При этом дом, комнаты в ее представлении — место для «традиционной» семейной жизни, а в саду есть особое «убежище», укромное место для встреч с Гервегом — пространство для другой любви. Но в «Гнезде близнецов» эта другая любовь не может быть сексуальной связью.
Я боюсь одного в нашей совместной жизни — это того, что ты захочешь возобновления прежних отношений со мною. Они невозможны, — то не проявление рабства с моей стороны, не деспотизм или предрассудок со стороны Александра — это более глубоко, более истинно, более законно… не уважать этого — значит желать, чтобы мы рассеялись во все стороны, навсегда потеряли друг друга. Вот чего я боюсь и в чем не верю тебе, — быть может, я ошибаюсь — о, если так — ни облачка, ни нестройного звука… Как бы я хотела ошибиться!.. (287).
Однако надежды на гармонию не сбылись: ни один из «близнецов» (включая и саму Наталью Александровну) не выдержал своей «мифологической» роли.
Письма Натальи Герцен к Гервегу — крайне противоречивы: эротическая энергия, буквально перехлестывающая через край, — и призывы к платонизму; уверенность в абсолютной искренности и естественности всех отношений — и сложный, многоступенчатый обман, в который вовлечена и жена Гервега Эмма; мечта о жизни семьей-коммуной в гармоническом «Гнезде близнецов» — и то и дело высказываемое убеждение, что эта идиллия невозможна.
Ощущает ли эту противоречивость сама Наталья Александровна? И да, и нет. Конечно, когда отношения завязываются в неразрешимый узел (когда узнает правду Александр, «бунтует» Эмма, вмешиваются третьи лица), сложность и запутанность самоощущений выражается все сильнее.
Когда Гервег, уехав в Геную после разговора с Герценом, пишет ей письмо с требованием, чтобы она, бросив семью, присоединилась к нему или привела в исполнение свое намерение покончить жизнь самоубийством, о котором писала ему незадолго до этого, Наталья отвечает ему следующим письмом:
У меня нет желания перечесть свое письмо к тебе, написанное несколько дней тому назад, у меня нет желания перечесть твое. Я хочу сосредоточиться во всей своей внутренней чистоте, чтобы выразить тебе благодарность за ту полноту существования, которую ты подарил мне, полноту, в которой заключалось такое мучение и такое блаженство. Георг! Благодарю тебя за все! И еще мне хочется исповедаться перед тобой, показаться тебе еще раз такой, какова я на самом деле. Да, послушай, Георг, никогда не могла я составить себе ясного представления о жизни с тобой без Александра, без моих детей, я даже никогда не пыталась этого сделать, это было для меня невозможно; но когда я увидела, что ты становишься все более и более грустным и недовольным, мне захотелось сделать все для тебя, не размышляя; я была готова ко всему, считая каждую минуту последней, — ибо для меня оторваться от Александра равносильно тому, что вырвать растение из почвы, где оно провело жизнь, где пустило корни, где развивалось в течение 25 лет; покинуть детей — и об этом я также не могла и подумать; однако в конце концов, видя тебя почти в отчаянии, я сказала тебе, что готова на все, и в то же время просила отдать в починку пистолет, — то была не шутка. Почему же ты не исполнил этого? Я не страдала бы более, ты же был бы удовлетворен… Я в состоянии была убить себя тогда… Теперь же рука моя не поднимается, для себя я ничего не хочу, я смотрю на себя как на собственное надгробие, однако я не в состоянии покинуть Александра в таком положении… я не могу! Ты можешь убить меня, сделай это, если у тебя есть хоть малейшее желание, говорю это искренне… и не беспокойся, верь, что до тех пор, пока я жива, и с достоинством буду носить тебя в душе. Будь уверен…. Однако, к чему уверения, если ты не всегда чувствуешь меня близ себя… О Георг, Георг, Георг, Георг! Я хотела спасти всех своей гибелью, если это необходимо, все спасти и очистить — для этого я готова еще умереть и жить… (300–301).
Это письмо показывает, как раздирают Наталью Александровну противоречивые чувства. Очевидным становится нежелание или неумение вести себя более «нормально», непротиворечиво, выбрать что-то одно — страсть или семейную любовь и привязанность; жизнь или смерть; ощутить себя или правой, или виноватой, жертвой или победительницей. Но именно эту «ненормальность», раздвоенность и противоречивость она и считает искренностью, внутренней чистотой, своей «самостью» — такова она «на самом деле».
Несмотря на самообвинения, чувство вины перед обоими мужчинами (особенно перед мужем) и детьми, Н. А. Герцен все же в письмах к Гервегу стремится придать себе, своему женскому Я высокий и позитивный статус: говоря о своих муках, уподобляет себя Христу: «Меня распинают на двух крестах… Я заслужила это, я любила сверх меры» (303).
Совсем иная интонация и иное Я в письмах Натальи Александровны 1850–1851 годов к Герцену. В начале романа с Гервегом, при первых осложнениях отношений с мужем она пытается ему объяснить суть своей неудовлетворенности, не ставя под сомнение супружескую близость и нераздельность. После первой попытки объяснения, она пишет из Цюриха 12.01.1850 года: