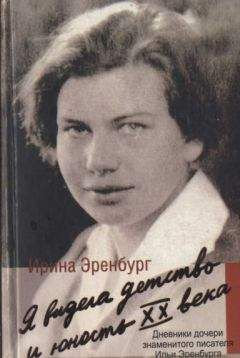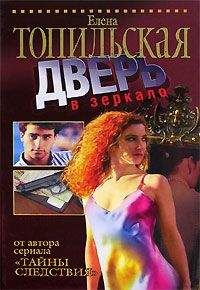Ирина Савкина - Разговоры с зеркалом и Зазеркальем

Обзор книги Ирина Савкина - Разговоры с зеркалом и Зазеркальем
Савкина Ирина Леонардовна
Разговоры с зеркалом и Зазеркальем:
Автодокументальные женские тексты в русской литературе первой половины XIX века
Моему мужу Алексею Савкину
Предисловие
В этой книге речь пойдет о женских дневниках, воспоминаниях, автобиографиях и письмах, написанных в России в первой половине XIX века. Использованная в названии исследования метафора зеркала кажется по отношению к названному материалу вызывающей банальностью: ведь зеркало — это то, что на уровне обыденного сознания слишком тесно связывается с женщиной и женским. Множество юмористов попаслись на вечнозеленой лужайке сюжета «свет мой, зеркальце, скажи…», легион критиков прошелся насчет темы женского творческого нарциссизма; сравнение женского дневника с будуарным зеркалом отнюдь не блистало новизной и оригинальностью уже в 40-е годы XIX века, когда его употребил М. Катков в статье о творчестве Сары Толстой[1].
Но символика зеркала, как известно, не сводится к сюжету о Нарциссе. Мотив зеркала тесно и сложно связан с дихотомиями внешнее/внутреннее, видимое/невидимое, свое/чужое, приватное/публичное.
М. Бахтин в одной из своих ранних работ заметил, что «видение себя в зеркале — это всегда взгляд на себя глазами другого (ведь наша собственная наружность не имеет для нас цены)»[2], и, смотря в зеркало, мы придаем лицу то выражение, которое кажется нам желательным или «нормальным» с точки зрения значимых для нас других. «Стоя на касательной к миру, я вижу себя [в зеркале. — И.С.] целиком находящимся в мире, таким, каким я являюсь только для других»[3], — отмечает Бахтин в другой своей заметке. То есть, смотрясь в зеркало, мы видим скорее не себя для себя, а себя для другого: для того, кто смотрит на нас.
Кто является таким «другим» (или другими?) для пишущей женщины? Как это связано с ее положением в патриархальном социуме, где на нее всегда направлено, по выражению Э. Сиксу, «запрещающее око всевидящего зеркала»[4]? Насколько актуально подобное присутствие «недреманного ока», контролирующего взгляда другого для сугубо приватных, на первый взгляд, автодокументальных жанров? Эти и подобные вопросы и будут лейтмотивом моей книги.
Однако парадокс зеркала состоит не только в том, что ты видишь в нем себя самого/самое чужими глазами, не только в эффекте отчужденности. Взгляд в зеркало — это на самом деле обмен взглядами, диалог между Я, которое находится здесь, и Я-отражением, которое находится нигде (в Зазеркалье?).
Болгарская исследовательница Милена Николчина анализирует этот аспект зеркальности в незаконченном эссе М. Фуко «О других мирах» («Of Other Spaces»). Она отмечает, что, когда человек смотрит в зеркало, отражение смотрит на него из места, где его нет. То есть отражение в зеркале позволяет видеть себя там, где меня нет (в своего рода Зазеркалье). Взгляд, исходящий от зеркала, превращается в материальную силу, «которая вынуждает меня воссоздавать меня там, где я есть»[5].
Автодокументальные жанры — письма, дневники, воспоминания и т. п. — это своего рода разговоры с зеркалом, со своим другим Я, отчужденным и возвращенным себе. Женщины пишут, осуществляясь в акте письма; увидев себя в зеркале и Зазеркалье автотекста, они воссоздают себя, утверждая: «я есть, я пишу, значит — существую».
Когда я несколько лет назад писала первый вариант этой книги как докторскую диссертацию в университете г. Тампере (Финляндия)[6], главным моим мотивом было вслушаться в голоса давно умерших женщин, которые «писали себя», но не были прочитанными и услышанными. Сам предмет исследования — женские автотексты — казался тогда находящимся ad marginem — на обочине столбовой дороги «Великой литературы».
Но в самое последнее время ситуация, по-моему, существенно изменилась. Дело не только в том, что возрастает интерес к «невымышленной литературе», идет процесс легализации понятий «женская проза», «женское письмо» и пр., меняются интерпретационные парадигмы. Принципиально важно и другое: возникновение новых возможностей коммуникации (развитие Интернета, электронной почты, мобильной телефонной связи, электронных СМИ и т. п.) радикально трансформирует многие базовые для fiction/non-fiction литературы понятия.
Некоторые автожанры (в частности, дневник и его модификации), став необыкновенно востребованными — в литературе, журналистике, в Интернете, — заметным образом трансформировались. Например, в случае онлайнового дневника автор не только рассчитывает на публичное чтение своего текста (практически в режиме реального времени), но может влиять на выбор аудитории чтения (ограничивать доступ к своим блогам, делать их чтение доступным только определенной, отобранной им самим категории лиц и пр.); пристрастные и беспристрастные читатели получают возможность комментировать чужой дневник, превращая его в гипертекст. Понятия публичности/приватности, открытости/закрытости, адресованности/неадресованности дневника в этом случае радикальным образом переопределяются.
При этом вопрос о реальности, аутентичности дневникового текста, который в названном случае представляется, на первый взгляд, абсолютно избыточным, на самом деле оказывается весьма непростым, ибо при всей своей «онлайновости» интернет-дневники — в высшей степени маскарадное и игровое пространство.
В случае «традиционного» non-fiction текста один из способов отличить вымышленного автора, героя, автора/героя от реального — это возможность референции, то есть удостоверения личности другими, внетекстовыми способами. Но как проверить и отследить авторов интернет-дневников в случае, если они пишут под псевдонимами-никами? Один и тот же человек может писать под разными псевдонимами одновременно или менять их последовательно. Интернет-пространство становится полем абсолютной мистификации — оно насквозь текстуально и «фиктионально». Значит ли это, что проблема референции снята и заменена чем-то принципиально иным, или это значит только то, что изменились способы референции?
Чтобы обсуждать и решать подобные «проблемы будущего», которые стремительно оказываются проблемами «настающего настоящего» (выражение М. Бахтина), нужно иметь какие-то точки отсчета.
Мне представляется, что изучение истории автодокументальных жанров, в том числе и того материала, о котором пойдет речь в этой книге, поможет в какой-то степени понять, что происходит с нами, здесь и сейчас, какие разговоры мы ведем с зеркалами — в том числе с зеркалом-экраном нашего компьютера.
Однако я должна признаться, что для меня самой в этой книге важны не только научные проблемы, но и живые женские истории, женские голоса, заглушенные временем и пренебрежением патриархальной академической традиции. Я хочу, чтоб они были услышаны.
ВВЕДЕНИЕ
Как уже отмечалось, материалом данного исследования будут женские письма, дневники и воспоминания, написанные в России в первой половине XIX века. Для обозначения совокупности этих текстов я буду использовать термин женские автодокументальные жанры (женские автодокументы)[7], понимая под «автодокументальными» такие тексты, которые «настаивают» на своей референциальности, соотнесенности с реально бывшим, причем эта «установка на подлинность» создается в первую очередь за счет «удостоверения авторской подписи», референциальности авторского Я, субъекта эпистолярного, дневникового или мемуарно-автобиографического дискурса[8].
Интересующий меня материал только в самые последние годы попал в «зону видимости» русской литературоведческой традиции, до этого же подобные тексты находились в позиции тройной маргинальности.
Во-первых, в качестве автобиографической литературы, которая со времен Белинского имеет статус «пограничного» жанра[9] и исследователи которой должны каждый раз приводить свидетельства о ее «законнорожденности» и праве присутствовать в приличном обществе прочих узаконенных литературных жанров.
Во-вторых, в качестве женских текстов, «второсортность» и сомнительность которых «очевидна» для патриархатной критики[10].
И наконец, русские женские автобиографии — «бедные родственницы» в том смысле, что? в отличие от своих западных сестер по жанру, они относительно редко становились предметом исследовательского интереса[11]. Как справедливо отмечает Барбара Хельдт, в русской автобиографической традиции, заметно озабоченной социальными и политическими проблемами, воспоминания женщин, которые не сделали общественной карьеры или не были связаны с социально значимыми мужчинами, практически неизвестны, не выделены в архивах и не учтены в библиографиях[12].