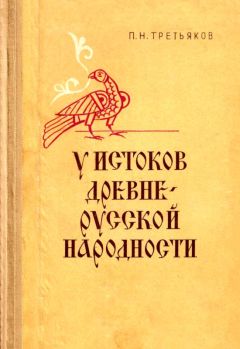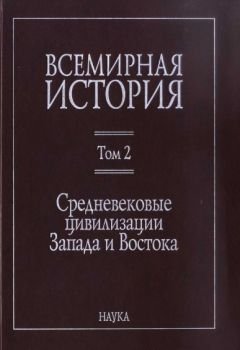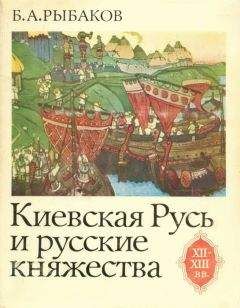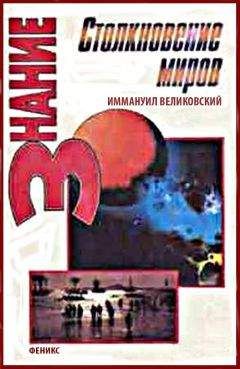А. Крамер - Раскол русской Церкви в середине XVII в.
ж) Вышеуказанным отсутствием епископского авторитета в старообрядчестве, без которого многие вопросы, некогда поставленные жизнью и решенные Церковью за 16 веков Ее существования (причем именно епископат был хранителем этих решений), вновь возникли, и настоятельно требовали ответа, невозможного без широкой начитанности. Например: молиться ли за царя-еретика? Какое общение с еретиками допустимо? Следует ли перекрещивать раскаивающихся еретиков, если они крещены? и т. д., и т. д. — см. с. 242–259. Ответы можно было узнать только из книг.
з) Необходимостью постоянно защищаться от нажима не только православных полемистов, но и старообрядческих же, «конкурирующих» начетчиков других согласий, выработавших и усвоивших другие ответы на трудные вопросы. «Конкуренция» между старообрядческими согласиями, так сказать, борьба задуши, не прекращалась до 1917 г. Осуществлялась она, в основном, в виде «прений о вере», ведшихся до 1905 г. скрытно от властей, на частых в старообрядчестве (в отличие от государственной Церкви, не обсуждавшей соборно свои проблемы — как будто их не было — более 200 лет) съездах и соборах, после же 1905 года — публично, на диспутах, привлекавших массы народа (не только старообрядцев, но и многочисленных православных), переполнявшего, например, в 1909 г. в Москве большую аудиторию Политехнического института.
В качестве иллюстрации напряженности богословской мысли в старообрядчестве (повторю, очень узко направленной только на животрепещущие для него темы) приведу одну цифру: только в 62 исследованных рукописных сборниках найдено написанных только в XVIII и первой трети XIX в, только авторами — беспоповцами, только по вопросу о браке — 143 полемических сочинения! И эта цифра еще далеко не полно отражает многообразие мнений о браке в старообрядчестве и остроту полемики, так как: а) сохранилось подобных сборников значительно больше, чем 62, б) было их еще гораздо больше, так как большинство подобных книг было изъято и уничтожено властями до 1905 г., немало погибло и в советское время, в) многие спорные предположения обсуждались устно на соборах и не оставили письменного следа, г) многие обсуждались в частной переписке старообрядческих авторов и тоже не вошли в исследованные сборники, д) о браке спорили и писали (против беспоповцев и между собой) и авторы — поповцы.
«В старой Руси господствовало отсутствие мысли и невозмутимое подчинение авторитету властвующих. <.. В противоположность этому > раскол <то есть старообрядчество> любил мыслить и спорить. <…> В нашей истории раскол был едва ли не единственным явлением, когда русский народ не в отдельных личностях, а в целых массах, без руководства и побуждения со стороны власти <даже вопреки ее руководству и побуждению> или лиц, стоящих на степени высшей по образованию, показал своеобразную деятельность в области мысли и убеждения. Раскол был крупным явлением народного умственного прогресса» [33, с. 265, 292].
и) Доходностью грамотности в старообрядчестве (независимо от ее полезности в бизнесе). Грамотность в старообрядческой среде не была дорогостоящей убыточной забавой «для себя» вроде коллекционирования или туризма или занятий музыкой или танцами или живописью или фотографией или философией или охотой в дворянских семьях. Во многих старообрядческих семьях вырастали умелые начетчики, уставщики, переписчики книг (текстовых и знаменных), иллюстраторы, переплетчики, регенты, головщики, певчие, чтецы и иконописцы (которые должны были читать иконописные «подлинники» и надписывать свои иконы и, поэтому, быть грамотными). Все эти умения становились, по мере их совершенствования, именно профессиями и приносили их обладателям немалый (так как заказчики их труда были не бедными, и спрос на этот труд был немалый) доход, и все, кроме первого (а по великой нужде, из-за отсутствия мужчин после 1917 г. — и первое), были доступны женщинам. Начетчики же становились, естественно, первыми кандидатами на место священника или беспоповского наставника, что тоже было сильным стимулом к упорному овладению знаниями. Насколько можно судить по записям или публикациям диспутов, которые вели старообрядческие начетчики против «никонианских» миссионеров или начетчиков других согласий, уровень их знаний был достаточно высок.
4) Замутнение и загрязнение русского языка в XVIII–XX вв. в православной части народа. Уровень грамотности простого православного народа, полу-насильственно полу-«отодвинутого» от древнерусской книжной культуры, неизбежно должен был понизиться и понизился. Это, вместе с последовательным закрепощением крестьян и усилением их эксплуатации светскими и духовными помещиками, привело к оскудению русского языка даже в крестьянской среде. Но гораздо хуже обстояло дело в верхах общества (доказывать это я считаю излишним), отрезавших себя от древнерусской книжной культуры по собственной воле и, следовательно, гораздо решительнее и бесповоротнее. Период безнадежной, казалось, порчи русского литературного языка длился вплоть до Пушкинской эпохи. Все это время более или менее чистым сохраняло язык (изучив его по богослужению) только православное духовенство в своих проповедях; это — его неоценимая и незабываемая заслуга. Из этого кладязя чистоты и черпали восстановители литературного языка — Карамзин, Пушкин, Крылов.
Ранее я написал, что в начале XX в. у старообрядцев была своя пресса; о ней следует сказать несколько слов именно здесь. Ее язык (как журнальных статей, церковных по содержанию, так и вполне светских) — хороший русский, в отличие от языка очень многих статей большинства петербургских и московских газет этого времени, читая которые нельзя не заметить, что их авторы, вероятно, выросли и научились говорить и писать в Одессе. Почему эти малокультурные и малообразованные многочисленные журналисты-«одесситы» получили «не пыльную» работу в столичных газетах (вместо того, чтобы стяжать свой хлеб насущный тем, что им удавалось бы гораздо лучше — разгружать уголь и подметать улицы), и ни один из них, если не ошибаюсь, не писал для старообрядческих журналов? Ответов на этот вопрос — несколько; выписывая их все, я, конечно, очень далеко вышел бы за рамки темы предлежащей читателю книги; скажу только, что без коррупции не обошлось и здесь. Старообрядческие же журналы отказывались, вероятно, от сотрудничества с подобными авторами; не помогали и деньги.
Сходный с языком путь прошли и многие другие стороны культуры православного русского народа. Но даже самое краткое обозрение их состояния займет слишком много места, поэтому эта проблема должна стать предметом специального исследования или, точнее, специальных исследований. Но необходимо, оставаясь в границах моей темы, отметить, что растянувшийся на 3 столетия кризис русской культуры некоторые исследователи приписывают реформам Петра. Это верно лишь отчасти; начался этот кризис не при Петре, а с «Никоновых» реформ, и при Петре лишь усилился; важно, что без реформ середины XVII в. не было бы и реформ начала XVIII в., или они имели бы совсем другой вид и результат.
5) Появление и развитие в России экстремистских духовных течений, явно и очевидно извративших основные нравственные устои христианства своей проповедью и осуществлением самоубийства, сожительства с родственницами, оскопления (в том числе принудительного) и хлыстовства. (Хлыстовство — не старообрядческое согласие, но оно стало возможным только в результате «раскачивания и расшатывания» корабля Церкви, начавшихся с «Никоновского» раскола, и очень далеко разросшихся). Чего-либо подобного в до-никоновской России не было, в том числе и в немногочисленных русских средневековых «ересях». Чего-либо подобного не было и нет, насколько я знаю, и в многоликом и многоименном западном протестантизме (за исключением квакерства — подобия хлыстовства). Как я уже цитировал, «вместо чаемого улучшения религиозной жизни русскаго народа, в ней народилось небывалое доселе сектантство, все более и более удалявшееся от основ православия и все сильнее заражавшее собою религиозно-нравственную жизнь нашего народа».
6) Консервация и, отчасти, развитие в старообрядчестве (в том числе в заграничном) до середины XX в. многих черт русской культуры времени начала раскола: языка, устава богослужения, пения и его записи, одежды, иконописи, изготовления (в том числе переписывания, иллюстрирования и переплетения) книг, прически, манеры общения, семейных порядков, кулинарии, ремесел, зодчества и т. д. (Широко известны, например, песни и сказки некрасовцев — потомков старообрядцев-казаков, ушедших в 1711 г. в Турцию с атаманом Игнатом Некрасовым, помощником Кондрата Булавина, как и поморские сказки Б.В. Шергина). В «новообрядческой» части русского народа все это значительно изменилось.
Прекрасная деревянная архитектура русского Севера XVII–XIX вв. — на мой взгляд, лучшее и оригинальнейшее из всего, что внес в мiровую культуру русский народ, — не случайно создана именно в тех областях, где большинством населения были старообрядцы. Она совершеннее (конструктивно и эстетически) и разнообразнее, чем ее ровесница в центральной России, где старообрядцы составляли меньшинство. Она не создана северно-русским населением с нуля, но развилась, естественно продолжив тамошнюю до-никоновскую деревянную архитектуру. Как достижение европейской деревянной архитектуры, она сравнима, я думаю, только с карпатской.