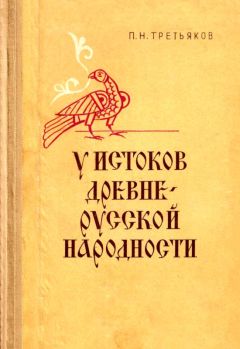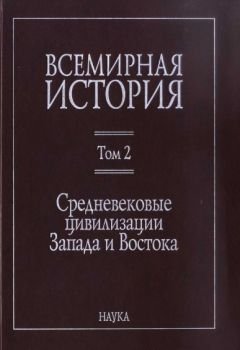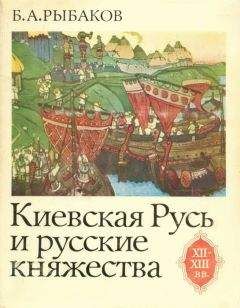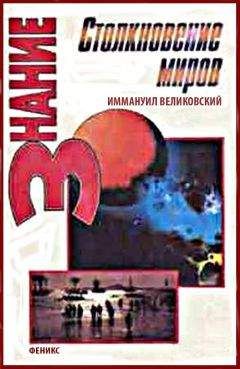А. Крамер - Раскол русской Церкви в середине XVII в.
Старообрядческую литературу можно, с оговорками о условности и приблизительности, разделить на периоды, из которых я вкратце опишу (в основном, цитируя) только первые два, которые завершились как раз тогда, когда и я остановил последовательное описание событий начала раскола, то есть в 1682 г. В первом (1653–1663 гг.) «дискуссия по вопросам церковной реформы <…> только еще начиналась и велась узким кругом лиц из числа образованных служителей церкви. <…В эти годы основатели старообрядчества> стремились лишь в устной полемике, или же максимально используя эпистолярный жанр, образумить своих оппонентов — реформаторов церковных книг и обрядов, остановить и повернуть вспять вредоносную на их взгляд, и пагубную для православия реформу. <…> Второй период (1664–1682 гг.) можно охарактеризовать <…> сознательным вынесением внутрицерковной полемики старообрядческими руководителями на суд широкой общественности. Начатая старообрядцами широкая агитационная работа в народе привела к реальному расколу всего общественного организма страны. <…> Кончается этот период гибелью главных старообрядческих лидеров и писателей» [60, с. 27–29]. В этот период «московскими писателями-старообрядцами были написаны основные догматико-полемические сочинения, содержащие критику церковной реформы и новоисправленных богослужебных книг и обрядов. Вместе с тем в этот период московские старообрядцы приступают к активной пропаганде своих догматико-полемических писаний, оформляя свои сочинения в виде публицистических книг, предназначенных для чтения всем желающим. Чаще всего такие книги сохраняли за собой названия челобитных, посланий, писем, адресованных царю, патриарху или иному лицу (как это было принято в предшествующий <…> период старообрядческой литературно-публицистической деятельности), однако эти послания все более приобретали характер «открытых писем» к властям или авторитетам из своей среды, а их "привязка" к адресатам стала носить характер литературного "этикетного" приема для придания сочинению более отчетливого публицистического звучания» [60, с. 106].
«В 50-60-х гг. XVII вв. <…> в Москве <…> все шло к тому, чтобы к концу XVII столетия почти полностью вытеснить рукописную книгу из повседневного читательского обихода, как это случилось к тому времени в большинстве западноевропейских стран. Было ли такое развитие событий прогрессивным явлением для России того времени? На этот вопрос нет однозначного ответа. Господство печатной книги на книжном рынке в условиях суровой церковной цензуры означало фактическое установление жесткого церковного и государственного контроля над всей русской письменностью и литературой, влекло за собой неизбежное сужение доступного обществу книжного репертуара, а, следовательно, и кругозора русского читателя. Однако заката и гибели рукописной книги в XVII в. не произошло, сохранилась она на Руси и в последующие два столетия как живая традиция, с сопутствующим ей книгописанием как особым ремеслом. И непосредственной причиной этого стал раскол русской церкви. <…> На долгие два с половиной столетия старообрядческая рукописная книга стала почти единственной формой удовлетворения духовных потребностей миллионов крестьян и ремесленников, не порвавших со "старой верой" своих предков» 160, с. 37–38].
8) Бегство старообрядцев туда, где их не могла достать тяжелая рука правительства, то есть на окраины России и за ее границы. Оно было массовым, началось еще при жизни Аввакума и не прекращалось до 1905 г. Бежали в Поморский край, в Сибирь, в Польшу, Литву, Швецию, Пруссию, Турцию (особенно в ее ближайшие к России провинции — Молдавию, Буковину и Румынию), Китай и даже в Японию и Египет.
На южных, восточных и юго-восточных окраинах России старообрядцы, бежавшие из Великороссии, сливались, естественно, с местным казачеством, тоже, в основном, не принявшим новые обряды; в конце XVII и в XVIII вв. «казаки поступили в раскол почти поголовно» [102, с. 32] (это — преувеличение). В результате старообрядцы в XIX в. составляли не менее половины казачества в целом (в некоторых Войсках — например, в Уральском — до 90 %), несмотря на сугубо-усиленное в казачьих областях миссионерство синодальных властей. Свойственные старообрядцам, привыкшим критически относиться к начальству и его указаниям, самостоятельность (никогда не переходящую в недисциплинированность), сообразительность и решительность отмечали в действиях казачьих войск многие военные наблюдатели и мемуаристы, как русские, так и иностранные (в том числе и резко-критически настроенные по отношению к «диким» казакам). Например, старообрядцем был герой всех войн 1805–1814 гг. казачий атаман граф М.И. Платов ([4, с. 138]). Отмечу, что призыв, формирование, снаряжение, тактика действий армейских и гвардейских казачьих частей, система управления ими в бою и военная карьера казака очень отличались от призыва, формирования, снаряжения, тактики действий и системы управления в бою регулярных конных частей русских армии и гвардии и военной карьеры солдата и офицера армейской или гвардейской кавалерии; например, атака и отступление казачьей сотни совершенно не похожи на атаку и отступление гусарского, и даже уланского эскадрона. В казачьих частях все перечисленное было приспособлено к особому казачьему стилю мышления и поведения и давало хорошие, с военной точки зрения, результаты, что считалось до 1917 г. общепризнанным.
Казаки всех Войск воевали во всех войнах, ведшихся Россией и составляли важную и надежнейшую часть русской армии, резко отличаясь от всего, имевшегося в армиях западных держав (кроме, возможно, французских зуавов) и многократно своими действиями принеся победу русскому оружию. Можно не говорить много об особой преданности казаков монархии и враждебности революционерам — это общеизвестно; соответственно этому монархия и использовала казаков в начале XX в. на самых ответственных «участках» царской службы — во внутренних и пограничных войсках — и поступала правильно.
Те же самостоятельность, сообразительность и решительность оказались необходимыми для самого выживания старообрядцев, бежавших от преследования русских властей на север, северо-восток и восток. «Эти бега по своему хозяйственному и социальному характеру были настоящей колонизацией девственных лесных пустынь» [111, с. 199]. Убегая из Московского царства, а затем из Санкт-Петербургской империи, старообрядцы либо мирно колонизовали пустынные северные, очень трудные (казалось бы, невозможные) для проживания местности, либо основывали русские поселения на Урале и за Уралом, вытесняя или покоряя воинственное местное население. В первом случае небывало тяжелым потом, во втором — своей кровью они платили за возможность жить, молясь, как молились их отцы и деды. Плоды того и другого пожала Российская Империя, освоив Урал со всеми его богатствами и распространив свою власть на отдаленнейшие области Азии до китайских границ и Тихого Океана. Однако благодарности старообрядцам за это от ее центральной власти вслух заявлено никогда не было, хотя такое заявление было бы вполне прилично и уместно после 1905 года, например, в виде Высочайшего приветствия петербургскому съезду единоверцев в 1909 г. Более того, старообрядческая колонизация за Вологдой и за Уралом до сих пор не стала, насколько я знаю, темой специального научного исследования. Впрочем, если я не ошибаюсь, нет и специальных сочинений по общей истории старообрядческой эмиграции.
Монархия, как сказано выше, правильно использовала казачество и, в том числе, его старообрядческую часть. Соответственно этому отнеслась к казачеству и революционная власть после 1917 г., делая все, что было в ее силах, чтобы истребить казачество полностью, — и поступала, со своей точки зрения, столь же правильно. Тогда погибла значительная часть русских казаков-старообрядцев, и значительная часть их эмигрировала, чтобы погибнуть в 1945 г. Таким образом, казачество и его составная часть — казаки-старообрядцы — заплатили полную цену за свою преданность Богу, Царю и Отечеству.
При отсутствии единого для всего старообрядчества авторитета, и при дроблении старообрядчества на десятки согласий, должно было возникнуть и отделиться от прочих радикальное согласие, считающее русских государей источником зла, бед и нестроений, и даже — прямо — антихристами, и все русское государство — Антихристовым. Такое согласие и возникло; это — бегуны (или скрытники или странники), отказывавшиеся от всякого сообщения с мiрскими «Антихристовыми» властями, в том числе от паспортов, денег, пропусков, удостоверений, свидетельств о крещении и отпевании, документов о прописке, проездных билетов, продуктов с рынка или из лавки (в том числе и произведенных старообрядцами других, «подчинившихся Антихристу» согласий), переписи, молитвы за царя, и т. д., и, тем более, царской службы. Ясно, что такое добровольное, крайне тяжелое, и, с точки зрения государства, преступное отшельничество есть не что иное, как доведение до логического конца основных принципов беспоповства. Ясно также, что последовательных и бескомпромиссных бегунов было очень мало, так как такой подвиг по силам очень немногим, и жить и уцелеть они могли только в самых глухих углах Империи (на Алтае, и т. п.). Менее радикальным, но все же достаточно определенным в своем отрицании государства старообрядческим толком были не молившиеся за царя федосеевцы, которые «по своим убеждениям <…> являлись принципиально антигосударственным элементом» [25, с. 325].