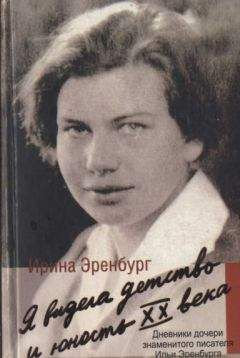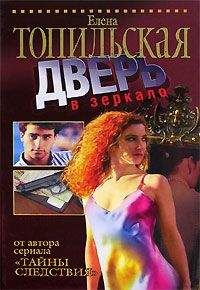Ирина Савкина - Разговоры с зеркалом и Зазеркальем
О великая Санд, так глубоко проникнуть в человеческую натуру, так смело провести живую душу сквозь падения и разврат и вывести ее невредимую из этого всепожирающего пламени. — Еще четыре года назад Боткин смешно выразился об ней, что она Христос женского рода, но ведь в этом правды много. Что бы сделали без нее с бедной Lukrecia Floriani, у которой в 25 лет было четверо детей от разных отцов, которых она забыла или не хотела знать, где они; слышать об ней считали бы за великий грех, а она остановилась перед вами и вы готовы преклонить колена перед этой женщиной <…>. О, если б не нашлось другого пути, да падет моя дочь тысячу раз — я приму ее с такой же любовью, с таким же уважением, лишь бы осталась жива ее душа, тогда все перегорит и все сгорит нечистое, останется одно золото (238).
«Много надо было перечитать и обдумать романов Жорж Санд, — замечает по поводу этих комментариев Е. Дрыжакова, — и сильно проникнуться, по выражению Достоевского, идеей à la Лукреция Флориани, чтобы, глядя на свое двухлетнее дитя, представлять ее себе в столь рискованной ситуации! Однако Н. А. Герцен была захвачена этими идеями полностью, „со всей стремительностью“, как скажет о влиянии Жорж Санд[527] на русское общество много лет спустя тот же Достоевский. Именно мысль о безусловном праве женщины на самостоятельное решение собственной судьбы и привлекала Н. А. Герцен в этом романе»[528].
Серьезные, переломные события во внешней и внутренней жизни меняют представления Герценов о женственности и месте женщины. Для Александра Ивановича — это вопрос прежде всего социальный, и ответ на него он ищет в социальной сфере: нужно вывести женщину из «илотского» состояния, из домашнего круга на арену жизни общей. Правда, участие женщины в этой общей жизни ограничивается рамками ее «женского предназначения»: разумная мать-воспитательница, подруга-соратница мужчины[529].
Наталья Александровна переживает глубокий кризис идентичности и принимает «жорж-сандовскую» модель женственности как подходящую для себя. В романах Жорж Санд ее привлекают в первую очередь не рецепты социального переустройства мира, а восприятие женщины как свободной, самостоятельной личности, имеющей право на собственный, не продиктованный мужчиной и не определяемый социальными предрассудками, выбор и на собственные желания.
Процесс поиска и обретения нового Я оказался болезненным и длительным; он был связан не только с усвоением новых философских и социальных идей, обсуждаемых в герценовском кругу, но в первую очередь с собственным опытом (духовным и телесным), с переживанием и обдумыванием смерти, предательства, с кризисом веры.
Выработка нового самоощущения совпала с отъездом Герценов из России…
Трагедия самоосуществления
П. Анненков, посетивший семейство Герценов осенью 1847 года в Париже, с нескрываемым удивлением и неодобрением говорит о том, как сильно (и, на его взгляд, мгновенно и беспричинно) переменилась Наталья Александровна. «Жена Г<ерцена> после первой недели своего пребывания в Париже представляла уже из себя совсем другой тип, чем тот, который олицетворяла собой в Москве. <…> Из тихой, задумчивой, романтической дамы дружеского кружка, стремившейся к идеальному воспитанию своей души и не делавшей никаких запросов и никаких уступок внешнему миру, она вдруг превратилась в блестящую туристку, совершенно достойную занимать почетное место в большом, всесветном городе, куда прибыла, хотя никакой претензии на такое место и не заявляла. Новые формы и условия существования вскоре вытеснили у нее и последнюю память о Москве»[530].
Как можно видеть из писем самой Натальи Александровны, Анненков был глубоко не прав, когда подозревал, что европейские впечатления вытеснили из ее души всякое воспоминание о московских друзьях. Но в чем-то впечатления мемуариста и справедливы: по приезде в Париж в Наталье Александровне окрепло ощущение, что она пережила перерождение, что началась какая-то новая жизнь с новыми ценностями, где приоритетами являются самостоятельный выбор и организация жизни по собственному вкусу и желанию.
Я постараюсь проследить и проанализировать тот новый образ Я, который вырабатывает и утверждает в это время Наталья Александровна, по ее письмам 1847–1852 годов, остановив внимание на ее переписке как с ближайшими подругами: Т. А. Астраковой и Н. А. Тучковой, так, с другой стороны, и с двумя главными мужскими персонажами в ее жизненной драме этих лет: А. И. Герценом и Г. Гервегом.
В письмах Натальи Александровны заграничного периода ясно видны как ее зависимость от моделей женственности, усвоенных людьми ее круга и ею самой (особенно от образов Жорж Санд, которую она сама неоднократно поминает), так и страстное желание обрести наконец собственное, независимое, свободное Я. Нельзя не согласиться с П. Милюковым, когда он пишет, что «потребность своей собственной личной жизни <…> просится неудержимо наружу в письмах Наташи к Тучковой»[531] (165). Еще в Москве в одной из записочек Наталья Герцен писала Т. А. Астраковой: «Сегодня у нас будут наши такие и наши сякие! Будешь ли ты наша эдакая?» (626).
Именно «этакой» — свободной и самостоятельной женщиной чувствует себя Наталья Александровна в первые годы жизни за границей — или, по крайней мере, такой она представляет себя в письмах Астраковой. Письма 1847–1848 годов? кроме вопросов о московских новостях и знакомых, рассказов о детях, содержат многократные признания подобного рода:
…с некоторого времени я как будто выплыла на всех парусах при благоприятном ветре в океан… жизнь полна, спокойна, я чувствую в себе твердость, не юношеское донкишотство, не беспокойную силу, тешащуюся, ищущую борьбы — но силу, готовую на борьбу и спокойно ожидающую, что-то светлое, полное доверия обнимает душу… я так хорошо люблю моих друзей и мне так хорошо от этого, я чувствую себя свободной более, чем когда-нибудь в моих отношениях ко всем. <….> Я иногда пугаюсь своего счастия, своего спокойствия, не эгоизм ли?.. Может. Но чем сильнее это спокойствие, тем громче в душе отдается каждый грустный звук, тем более страдания другого становятся моими собственными. Никогда, Таня, я не была так счастлива, никогда любовь не достигала такой пол ноты, все примешивалась ячность (631).
Интересно здесь не только ясно обозначенное ощущение зрелого равновесия и свободы, но и разведение понятий «эгоизм» и «ячность». Из контекста письма можно предположить, что «ячность» — это саморефлексия, сосредоточенность на себе, на своих комплексах и т. п., мешавших спокойно и с любовью смотреть на людей. «Ячность» Наталья Александровна отрицает, а к эгоизму относится более терпимо. В следующих письмах мы не раз встретим слово «эгоизм» и целые пассажи в его оправдание. В этом чувствуется расхождение между супругами, о котором уже шла речь.
Если Герцен и теоретически и практически ищет выходов из всех личных кризисов на путях приверженности к «общему и всемирному» и ставит идеологические принципы выше личных связей, то Наталья Александровна говорит, что самое важное и ценное в жизни — это личная привязанность:
…всякое другое счастье так отвлеченно, так неопределенно, так неуловимо — что непременно надо оторваться хоть несколько от себя, чтоб наслаждаться им, а полно ли такое счастье. Положим, эти привязанности заключают в себе много эгоизма, да что же существует без эгоизма? Ну так-то, душка, итак тебе досадно, что меня называют самолюбивой до неделикатности, до дерзости…. в самом деле, это было бы досадно, если б это была правда; от самолюбия я не отрекаюсь, весь мир, вся жизнь потеряли бы для меня интерес, если бы я презирала себя, или, если б я считала себя недостойною всего того, чем я наслаждаюсь (да тогда б я и не наслаждалась), а как выражается это самолюбие — ну, уж это действительно под лежит суду людей… (632).
Слово «наслаждение» очень часто появляется на страницах писем к Астраковой в 1847–1848 годах (еще чаще — в письмах Тучковой). Свобода, отказ от романтической экзальтации, естественность выражения чувств, доверие инстинкту жизни и симпатии (а не разуму и рефлексии) — вот основные моменты в письмах к Астраковой, хотя, разумеется, эта самохарактеристика Натальи Александровны лишена абсолютной целостности и непротиворечивости.
Природа дает возможность, растворяясь в ней, наслаждаться и отвлекаться, в то же время иногда она навевает мысли о случайности, хаосе и бессмысленности мира, не одухотворенного прежней верой в небесную гармонию и бессмертие:
Право, иногда, несмотря на все хорошее, что есть в жизни, нельзя ее не ненавидеть, и это хорошее не имеет никакой цены для меня иногда, потому что все — случайность, все столько же важно и полно смысла в жизни, как погода, — просияет солнце, туча найдет, гроза — мимоходом убьет кого-нибудь и, не обращая внимания, снова светит, жарит, сушит и взывает снова к жизни — дождь льет целые дни, ночи — нелепо, все нелепо, и до крайней степени оскорбительно, оскорбительно оттого, что человек слишком привык к мысли, что все для него, все к его благу, все к лучшему, оттого-то так трудно поставить себя наравне с бабочкой, с цветком — покрасовался, поблагоухал, покачался на своем стебельке, — а там скосили его и завял в груде сена незамеченный, или сорвал кто-нибудь, позабавился, хорошо коли еще насладился — измял и бросил, иль морозом прибило, или ногой придавил кто — нужды нет, нужды нет до этого жизни, какое страшное равнодушие (636–637).