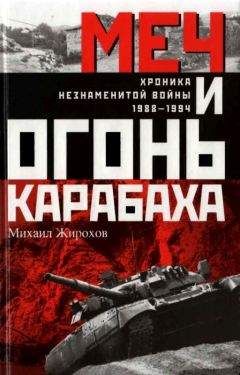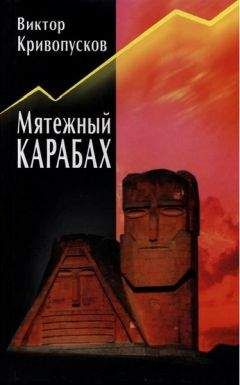Лоуренс Рис - Освенцим: Нацисты и «окончательное решение еврейского вопроса»
Однако, несмотря на все попытки дифференцировать два метода убийства, надуманное сравнение между ними, проводимое Хессом и другими нацистами, тем не менее, вызывает обеспокоенность и смущение. Одна причина этого состоит в том, что, как известно, среди лидеров Союзников возникло беспокойство в связи с политикой бомбежки немецких городов – и не в последнюю очередь, к концу войны, такую тревогу испытывал сам Черчилль. И совершенное в последние годы открытие, что весной 1945 года одним из критериев, на основании которых Союзники решали, на какие именно немецкие города следует сбросить бомбы, была их «горючесть» – критерий, приведший к уничтожению, например, такого средневекового города, как Вюрцбург, – только усиливает чувство неловкости. И есть еще одна, менее очевидная, причина, по которой подобное сравнение вызывает неприятие. Причина состоит в том, что осуществление бомбометания с больших высот вызывало неизбежное «дистанцирование» экипажей самолетов от убийства. «Это совсем не то же самое, как если бы я вышел и воткнул штык кому-то в живот, ясно? – говорит Пол Монтгомери28, член американского экипажа B29, принимавшего участие в сбрасывании зажигательных бомб на множество японских городов во время войны: “Конечно, ты их все равно убиваешь, но убиваешь с расстояния, и тебя это не деморализует так, как если бы ты бросился вперед и воткнул штык в живот противнику во время боя. Здесь все иначе. Немного похоже на ведение войны в видеоигре”».
Показания Монтгомери, конечно, пугающе напоминают эффект дистанцирования, который нацисты стремились создать для себя, строя газовые камеры. Как легче убить человека, сбросив на него бомбу, чем проткнув штыком, так нацистам было легче убить человека, отравив его газом, а не расстреляв. Технологии двадцатого века позволили не только убивать во время войны больше людей, чем когда-либо прежде, но и позволили совершавшим убийства меньше страдать психологически из-за своих поступков.
Но ничто из вышесказанного не означает, что возможно какое-либо оправданное и обоснованное сравнение между бомбардировкой Германии Союзниками и истреблением более миллиона человек в Освенциме. По всем указанным выше причинам эти два действия отличаются по существу. Но с точки зрения Хесса, и многих других нацистов, такое сравнение совершенно логично: бомбежка и отравление газом – просто разные методы уничтожения врага. И это означает, что как бы с Хессом ни обращались – даже если бы его действительно торжественно провезли по всей Европе «в клетке», как того требовал Станислав Ганц, – в действительности, он никогда бы не раскаялся в своих поступках. На самом деле, он, скорее всего, взошел бы на эшафот с двумя мыслями: «Я умираю не из-за своих преступлений, но потому, что мы проиграли войну; и я умираю потому, что меня совершенно неправильно поняли». В конечном счете, именно поэтому такой абсолютно невзрачный человек, как Хесс, – столь ужасающая фигура.
В 1947 году, когда Хесс ушел из жизни, созданный им лагерный комплекс стал быстро разрушаться. Поляки из близлежащих населенных пунктов разбирали кое-какие бараки в Биркенау и использовали доски, чтобы починить собственные дома, и разграбление лагеря стало происходить с ужасающей скоростью. Когда польская девушка-подросток Юзефа Желинская и ее семья вернулись в Освенцим после войны, то обнаружили, что им негде жить. Их дом снесли нацисты во время массовой перестройки всего района, и им пришлось поселиться в сарае, где когда-то держали кур. Чтобы как-то заработать, Юзефа с подругами спускались на территорию крематориев Биркенау и искали золото. Они перекапывали землю, смешанную с осколками костей, складывали в миску и промывали водой. «Всем было неловко заниматься таким делом, – говорит Юзефа. – Неважно, попали члены их семьи в лагерь и умерли там, или нет, все чувствовали неловкость, потому что это ведь были человеческие кости, в конце-то концов. Не очень-то нам было приятно в них копаться. Но нас принуждала к этому бедность». Благодаря деньгам, полученным за продажу золота, которое они вымыли из земли Биркенау, семье Юзефы Желинской удалось купить корову.
Ян Пивчик был еще одним поляком, вынужденным жить в курятнике около Биркенау, и он тоже признает, что искал ценности возле развалин крематориев: «Я помню, как нашел золотой зуб, и еврейскую монету, и золотой браслет. Ну, сегодня я бы не поступил так, правильно? Я не стал бы рыться в человеческих костях, потому что понимаю: это кощунство. Но в то время, в тех условиях – мы были просто вынуждены это делать». Когда Ян и его друзья не искали ценности, они подкупали советских солдат, которые иногда патрулировали местность, чтобы те позволили им взять доски из бараков Биркенау на постройку домой. «Знаете, – говорит Ян, – после войны было очень тяжело. Начинать приходилось на пустом месте».
Сразу после войны Станислав Ганц, бывший польский политический заключенный, ставший свидетелем казни Рудольфа Хесса, получил работу – охранял территорию лагеря Биркенау. Он пытался защитить лагерь от местных жителей: чтобы не дать им разворовать остатки крематориев, он делал предупредительные выстрелы в воздух. «Мы называли их кладбищенскими гиенами, – вспоминает Станислав. – Мы не понимали: как эти люди могут грабить могилы?». Даже в стороне от лагеря он обнаружил надежный способ вычислять их: «Их можно было узнать по запаху – он чувствовался еще издали. Это было зловоние гниющих тел. Таких людей легко было отличить от обычных прохожих».
На то, чтобы организовать музей из места злодеяний нацистов в Освенциме должным образом, ушли долгие годы. Например, только через много лет после падения коммунизма таблички в музее, наконец, заменили новыми, отражающими страдание евреев.
Тем временем, Оскар Гренинг, который несколько лет прослужил в СС в Освенциме, упорно поднимался по карьерной лестнице на стеклянной фабрике, где он теперь работал, пока не возглавил отдел кадров. Наконец, он стал на общественных началах выполнять функции судьи по трудовым спорам. Не видя никакой иронии или неуместности в своих словах, Оскар Гренинг заявляет о том, что опыт, полученный в СС и Гитлерюгенде, помогает ему выполнять свои обязанности служащего отдела кадров, поскольку «едва достигнув двенадцати лет, я уже хорошо знал, что такое дисциплина».
Несмотря на то, что он работал в Освенциме и участвовал в процессе уничтожения людей, сортируя и пересчитывая иностранную валюту, отобранную у прибывших на смерть, он никогда не считал себя «виновным» в каком-либо преступлении: «Мы прочертили грань между теми, кто принимал непосредственное участие в убийствах, и теми, чье участие не было непосредственным». Вдобавок ко всему, он чувствовал, что – здесь он цитирует позорный аргумент нацистов в свою защиту после войны – выполнял чужие приказы, и пытается оправдаться с помощью следующей аналогии: «Когда отряд солдат в первый раз должен выпустить пулеметный залп, они ведь не встают и не говорят: “Мы не согласны с этим – мы едем домой!”»
Эта отговорка, как ни странно, очень напоминает подход, принятый западногерманскими обвинителями после войны, когда они стремились определить, кому из Освенцима следует предъявить обвинения в военных преступлениях, а кому – нет. И если эсэсовец не принадлежал к руководству или не принимал непосредственного участия в убийствах, то он вообще избегал судебного преследования. Таким образом, когда прошлое Оскара Гренинга, наконец, раскрыли – что было неизбежно, поскольку он никогда и не пытался сменить имя и скрыться, – немецкие прокуроры не выдвинули против него никаких обвинений. Таким образом, его опыт демонстрирует, как можно быть членом СС, работать в Освенциме, присутствовать при процессе массового уничтожения людей, делать конкретный вклад в «окончательное решение еврейского вопроса», сортируя украденные деньги, и все равно не считаться «виновным» послевоенным западногерманским государством. Так, из приблизительно 6500 эсэсовцев, которые работали в Освенциме между 1940 и 1945 годами и, как считают, пережили войну, только приблизительно 750 получили то или иное наказание29. Самый печально известный судебный процесс – «Аушвицкий процесс», проходивший во Франкфурте между декабрем 1963 года и августом 1965 года, когда из 22 ответчиков 17 были признаны виновными, и только шесть получили высшую меру наказания – пожизненное заключение.
Однако не только Германия оказалась не в состоянии преследовать в уголовном порядке сколько-нибудь значительное количество эсэсовцев, работавших в Освенциме: точно такую же неспособность проявило и все международное сообщество в целом (возможно, за исключением польских судов: здесь судили 673 из всех 789 работников Освенцима30, которые когда-либо представали перед судом). Судебному преследованию препятствовало не только отсутствие единого мнения, признанного всеми странами, о том, какое именно поведение в Освенциме составляло «преступление», но и раскол, вызванный холодной войной и, следует отметить, откровенное отсутствие всякого желания.