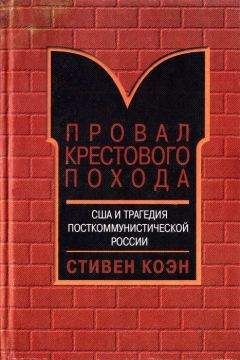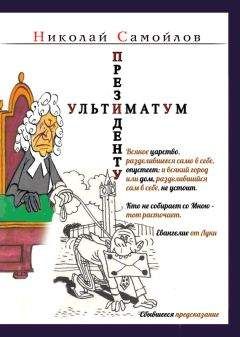Стивен Коэн - Долгое возвращение. Жертвы ГУЛАГа после Сталина
Изобличение преступлений сталинской эпохи не раз за десять лет приводило Хрущёва к конфликтам с влиятельными оппонентами, и всегда определённую роль в них играли его зеки. Когда он инициировал судебные процессы над Берией и другими руководителями сталинской госбезопасности (большая часть их пришлась на 1953–55 годы), выжившие жертвы предстали перед судом, чтобы дать показания. Когда он готовил свою политическую бомбу, взорвавшуюся на XX съезде, он позаботился о том, чтобы в зале среди почти 1500 делегатов оказалось заметными около сотни освобожденных зеков. Когда в 1957 году он шёл на открытое столкновение в ЦК с нераскаявшимися сталинистами: Молотовым, Кагановичем, Маленковым и Ворошиловым, — Шатуновская и Снегов снабдили его свидетельствами их соучастия в сталинских преступлениях. Когда Хрущёв пошёл в публичное наступление на упорно не желавший сдаваться культ Сталина, убрав в 1961 году тело деспота из Мавзолея, ещё одна бывшая жертва, Дора Лазуркина, внесла соответствующую резолюцию на заседании съезда. А чтобы развенчать миф о сталинском Гулаге как об «исправительных работах», Хрущёв обеспечил публикацию солженицынского «Ивана Денисовича» -неприкрашенный рассказ бывшего зека о жизни в лагере{89}.
Вернувшиеся из лагерей бывшие репрессированные способствовали десталинизации ещё в одном важном отношении. Споры вокруг прошлого часто становятся горючим материалом для политики, но редко этот процесс достигает такого накала, как в советские 1950–60-е (и затем в конце 1980-х годов). Сталинская эпоха для большинства советских граждан была всё ещё «живой историей», и их понимание её определялось десятилетиями самопожертвования и фальшивой официальной историей, которая держалась на цензуре и непрекращающихся репрессиях. Согласно этой официальной версии, Сталин в советской истории — это была череда непрерывных великих достижений страны, от коллективизации и индустриализации до победы над нацистской Германией и последующего превращения в супердержаву. Постсталинские элиты были продуктом той эпохи, она обеспечивала легитимность их власти и привилегий, поэтому они были решительно настроены «защищать прошлое, защищая себя», как убедился вскоре молодой писатель (и сын репрессированного) Юрий Трифонов{90}.
Одновременное, пусть и молчаливое, возвращение такого количества сталинских жертв было неопровержимым свидетельством параллельного существования, наряду с историей великих побед, истории не менее великих преступлений. Да и не все из возвратившихся хранили молчание. Как и предвидел Хрущёв, они рассказывали «родственникам, знакомым, друзьям, товарищам, как всё было». (Так, по свидетельству ныне покойного историка Виктора Данилова, тепло принявшего «возвращенцев», к ним в академический институт отечественной истории из лагерей вернулись 10–12 человек, которые открыто говорили о том, что пережили.) Для слушателей, в особенности молодых людей, «их свидетельства проливали новый свет на события»{91}. В идейном отношении, большинство жертв остались преданными сторонниками Советской власти, при этом их опыт способствовал пересмотру истории, необходимому для политики реформ. Но были среди них и представители несоветских традиций. Старый меньшевик Михаил Якубович и эсерка Ирина Каховская, например, жаждали справедливости в отношении своих убиенных товарищей. Солженицын и отец Дудко отстаивали более ранние религиозные и славянофильские ценности. А бывший троцкист Михаил Байтальский и вовсе вернулся к своим иудейским корням.
Подобно жертвам Холокоста, многие из тех, кто пережил сталинские лагеря, писали мемуары о Гулаге, потому что считали, что «это не должно повториться» (как озаглавил свою рукопись Сурен Газарян), — в том числе Евгения Гинзбург, Копелев, Разгон, Гнедин и Байтальский{92}. Другие становились сами себе историками. Будучи официально причастной к расследованию сталинских преступлений, Шатуновская собрала собственную коллекцию документов и интервью, которыми исследователи пользуются и по сей день. Излюбленная тема Снегова — «Сталин против Ленина» — заставила его искать пути в закрытые архивы и ездить по стране, выступая со страстными лекциями. Тем же занимались генерал Тодорский и Мильчаков{93}.
Что касается детей сталинских жертв, у которых вся жизнь была ещё впереди, многие или даже большинство из них позже примирились с советской системой и сделали успешную партийно-государственную карьеру. Одного такого молодого карьериста Анатолий Рыбаков встретил в начале 1960-х годов во время своей поездки на Ангару, где в 1930-е он сам отбывал ссылку. Вся «кулацкая» семья этого молодого человека была сослана в эти края и частично погибла, не выдержав суровых условий. Сам же он стал секретарем райкома комсомола и ожидал повышения -перевода на партийную работу в Москву. Брат его работал заместителем главного инженера электростанции, а сестра — директором универмага. Обиды на власть, как писал Рыбаков, они не чувствовали. Если взять уровень повыше, то примером может служить Пётр Машеров, глава компартии Белоруссии (1965–1980) и кандидат в члены Политбюро, чей отец умер в лагере в 1938 году. Но и в этом случае, как считалось, не было ничего удивительного в том, «что сын незаконно репрессированного Советской властью (реабилитированного в 1959 году) человека мог быть искренним и убежденным сторонником этой самой власти… Таковы были и время, и люди, выкованные в горниле 1930–1940-х годов»{94}.[21]
Но не все дети жертв пошли по конформистской стезе. Рой и Жорес Медведевы и Антонов-Овсеенко стали авторами исторических исследований, изобличающих деспотическую роль Сталина. Юрий Трифонов, Леонид Петровский, Юрий Гастев, Пётр Якир и Камил Икрамов писали биографии своих пострадавших отцов. А группа детей расстрелянных генералов взялась за «восстановление исторической правды»: они собирали документы для музеев и школ в различных городах{95}.[22] (В конце 1980-х годов ещё один сын сталинской жертвы, Арсений Рогинский, стал одним из основателей общества «Мемориал».)
Лишь малая часть этой исторической правды могла быть опубликована в СССР при Хрущёве и сразу после него. Но наружу, наряду со всё более откровенными литературными описаниями, выплыло достаточно, для того чтобы напугать всю чиновничью братию. Даже тем, кто прежде не знал об этом, становилось понятно, что власть и привилегии, как минимум, одного поколения этих чиновников были также продуктом террора в отношении миллионов их сограждан. Неудивительно, что они «боялись Истории»[23].
Обличение преступлений власти придавало моральное измерение другим политическим мерам Хрущёва и способствовало другим прогрессивным переменам. Социальные нужды, которые испытывали «возвращенцы», к примеру, ускорили осуществление реформ в области соцобеспечения и права{96}. Кроме того, антисталинизм хрущёвского руководства вдохновил новое поколение советских интеллектуалов и партийно-государственных деятелей, включая Горбачёва и многих из его будущих сподвижников. Для «возвращенцев» эта смена поколений имела подчас непосредственное значение: свои документы о реабилитации многие из них сумели получить, только после того как старые, ещё сталинской поры прокуроры, которым поручили их дела, были при Хрущёве заменены более молодыми кадрами{97}.
Но подобные знамения времени, означавшие, что «реабилитированные были в моде», одновременно порождали и мощную оппозицию. Бывшим палачам, особенно тем, кто всё ещё занимал высокие посты, было что терять. (Каганович возмущался, что Хрущёв предлагает, чтобы «бывшие каторжники судили нас» — реакция вполне объяснимая, если учесть, что в КПК о делах прошлого его, Маленкова и Молотова опрашивала лично Шатуновская.){98}. Угроза нависла не только над ближайшими сподвижниками Сталина — теми, кто подписывал расстрельные списки — но и над множеством менее значимых фигур с пятнами крови на биографии, такими, например, как первый постсталинский глава КГБ Иван Серов или будущий главный идеолог партии Михаил Суслов{99}.
Некоторые из тех, кто благоденствовал при Сталине, в том числе такие знаменитости, как Константин Симонов и Александр Твардовский, последовали примеру Хрущёва и раскаялись{100}, однако огромное большинство соучастников режима не только не считали себя виновными, но и активно противостояли Хрущёву. Сталинисты из верхушки руководства, поддержанные своими ставленниками в рядах бюрократии, пытались саботировать его политику реабилитации и лишить ожидаемого эффекта его речь на XX съезде. (Особую активность в этом деле, по сведениям Шатуновской, проявляли Суслов и Маленков.) Не сумев добиться желаемого таким способом, они попытались собрать документы, подтверждающие участие в терроре самого Хрущёва (совсем как сегодняшние сталинисты, пытающиеся дискредитировать историческую репутацию Хрущёва) и скрывающие или преуменьшающие их собственную вину, — как сделали Молотов, Каганович и Ворошилов, когда сформировали комиссию по расследованию эпизодов, в которых они принимали самое непосредственное участие. Когда и это не сработало, они совершили в 1957 году попытку сместить Хрущёва, едва не завершившуюся успехом{101}.