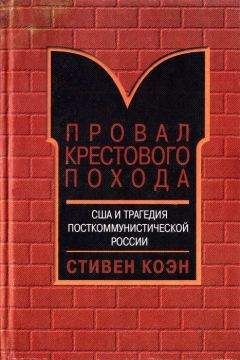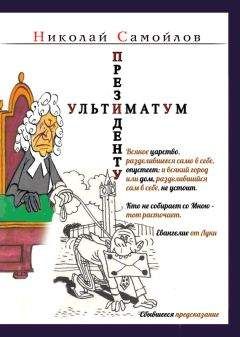Стивен Коэн - Долгое возвращение. Жертвы ГУЛАГа после Сталина
Визуальное искусство, в отличие от языка и музыки, было менее портативным, а значит, его проще было запретить. Но, судя по тому, что я сам видел и слышал, уже в те годы немалое количество картин, графики и даже скульптур на тему Гулага можно было увидеть на закрытых выставках в квартирах, студиях или, как в одном случае, на лужайке перед домом зека,
оставшегося жить в Сибири{77}. В техническом и жанровом отношении эти работы — практически все они были выполнены самими бывшими зеками — отличались значительным разнообразием: от больших масляных холстов, изображающих аресты и жизнь и смерть в лагерях, до мелких карандашных зарисовок истязаний нагих женщин-заключённых. О существовании подобного искусства в определённых кругах было известно уже на рубеже 1960–70-х годов, однако первые публичные выставки, состоявшиеся в конце 1980-х годов, стали сенсацией{78}.
Одновременно свои переживания бывшие зеки начали излагать в прозе и поэзии. В основной своей массе эта литература оставалась частью андеграундной, или «катакомбной», культуры до времён Горбачёва — но не вся{79}. Небольшой ручеёк произведений на гулаговскую тему, центральное место в котором занимал «Один день» Солженицына, просочился в официальную печать уже вскоре после знаменитой речи Хрущёва 1956 года — задолго до того потока, который хлынул после его же антисталинистских разоблачений конца 1961 года. К середине 1960-х годов лагерная литература выросла в особый, мощный жанр, ставивший ребром нелегкие вопросы о прошлом и настоящем страны — о её «страшной и кровоточащей ране», как признала даже советская правительственная газета{80}.
Ни одно из этих социальных явлений, имевших место после 1953 года, не может быть понято в отрыве от того, что по-прежнему являлось жестко-репрессивной политической системой. Чтобы иметь более заметное влияние на общество, эти процессы должны были быть инициированы на самом верху. В то же время, социально-культурное измерение возвращения жертв сталинизма было таково, что оно создавало давление «на нижних этажах», которое требовало от «верхних этажей» реакции более радикальной, чем просто замечания Хрущёва на закрытом собрании партийной элиты. А когда в начале 1960-х годов такая реакция последовала, этот «гул подземных пластов» оказался важным фактором в развернувшейся политической борьбе, определившим не только её причину, но и глубину противоречий между сторонами{81}.
«Хрущёвские зеки» и политика десталинизации
Немногие знают, что при Хрущёве вернувшиеся из Гулага зеки играли значительную роль в политике. Правда, в отличие от ряда восточноевропейских стран и Китая, в Советском Союзе ни один из деятелей, переживших репрессии и чистки, не вернулся в политическое руководство страны. Об этом задолго позаботился Сталин, уничтожив всех, кто потенциально мог это сделать. Некоторые из «возвращенцев» получили должности в руководящем аппарате партии, но в основном в низовых звеньях — либо потому что были уже в возрасте, либо потому что «пятно осталось». (Кому-то, по их словам, доверяли, но, как сказал бы Артур Миллер, — перефразируя известное выражение из характеристики героя его пьесы «Смерть коммивояжера» Вилли Ломана, — не вполне доверяли.){82}.
Многие бывшие зеки, однако, вернувшись, сумели занять номенклатурные посты, некоторые даже выбились в начальники. Среди них были маршал Рокоссовский и несколько генералов, Королёв, Баев, Борис Сучков, возглавивший Институт мировой литературы, Семён Хейман, занявший аналогичную позицию в Институте экономики, и Борис Бурковский, ставший директором музея легендарного крейсера «Аврора»{83}. В 1970-е годы я часто спрашивал своих знакомых разных профессий, есть ли среди их начальства кто-то, кто сидел при Сталине, и многие отвечали утвердительно.
Но наиболее важную политическую роль играла немногочисленная группа бывших гулаговцев, неожиданно объявившаяся близ центра власти. Все они -прежде всего, Ольга Шатуновская, Алексей Снегов и Валентина Пикина — до Гулага были старыми большевиками, занимавшими различные посты в руководстве партии. Освободившись в 1953–54 годах, они быстро оказались в числе людей, окруживших Хрущёва и его ближайшего соратника в руководстве, Микояна. (Их близость к двум лидерам слегка ослабила сопротивление, которое оказывали приёму «возвращенцев» бюрократы низовых звеньев, а некоторые чиновники среднего звена даже надеялись влиять через них на Хрущёва.) За глаза их называли «хрущёвские зеки», что звучало подчас уважительно, но, в то же время, не без издёвки[18].
Было очевидно, что Хрущёв с Микояном доверяют этим недавно освободившимся жертвам террора больше, чем сталинистам, которые продолжали доминировать в партийно-государственном аппарате. Шатуновская и Пикина вскоре заняли должности в КПК — Комитете партийного контроля ЦК, главном юридическом органе партии, осуществлявшем надзор за процессом реабилитации. Снегов и ещё один «возвращенец», Евсей Ширвиндт, оказались в руководстве Министерства внутренних дел, которому подчинялся Гулаг, а Александр Тодорский, бывший до лагеря офицером, получил чин генерал-лейтенанта и «брошен» на реабилитацию военных жертв сталинского терро-ра{84}.
Самыми влиятельными и активными среди «хрущёвских зеков» были Шатуновская и Снегов. (Григорий Померанц, независимый философ и сам бывший репрессированный, хорошо знавший Шатуновскую и написавший ценную книгу о её жизни и деятельности, называл её «одной из самых замечательных женщин в политической истории России».){85}. Эти двое, как позже вспоминали сыновья Хрущёва и Микояна, «открыли глаза» обоим лидерам на все ужасы сталинского террора и помогли убедить нового генсека выступить на XX съезде с его исторической антисталинской речью. (В своём выступлении Хрущёв открыто признал вклад Снегова в подготовку доклада.) Своей деятельностью Шатуновская и Снегов способствовали освобождению миллионов жертв: они убедили руководителей партии немедленно освободить ссыльных, находившихся на «вечном поселении», и послать «разгрузочные» комиссии в лагеря. Когда вокруг десталинизации в правящих кругах развернулась борьба, Шатуновская со Снеговым, по словам сына Хрущёва, оказались «нужны» его отцу и Микояну, служа им «глазами и ушами», а, возможно, также и совестью{86}.[19]
Среди главных сталинских наследников не было никого, на ком не лежала бы ответственность за тысячи загубленных жизней, но раскаявшимися сталинистами стали только Хрущёв с Микояном. (Особенно отличался в этом отношении Микоян, лично помогавший многим «возвращенцам», в том числе членам семьи Бухарина. Впрочем, возможно, это объяснялось его менее значимой и, стало быть, менее уязвимой позицией в руководстве.)[20]. Хрущёв не был пионером в деле десталинизации (прецедент был установлен Берией в 1953 году), к тому же, он вовсю использовал эту политику как инструмент в борьбе за личную власть. Но ни это обстоятельство, ни общая ситуация в стране в начале 1950-х годов, на которую порой ссылаются, не могут объяснить, почему Хрущёв сделал антисталинизм такой неотъемлемой частью своих реформ, что его воздействию, в конечном счёте, оказались подвержены все области политического процесса; почему он неоднократно шёл на гигантский риск, открыто разоблачая чудовищные преступления власти и освобождая уцелевших жертв репрессий; или почему он, ценой огромных затрат политического капитала, к примеру, фактически принудил членов Политбюро и ЦК принять его решение о публикации солженицынского «Ивана Денисовича»{87}. Все эти поступки, как признавали Солженицын, Медведев, Айхенвальд, Померанц, Копелев, Анатолий Рыбаков и другие, без сомнения, требовали «душевного движения», источником которого и стали «хрущёвские зеки». Как иначе объяснить выдвинутое им на съезде в 1961 году удивительное предложение о сооружении национального мемориала в память о жертвах сталинских репрессий — мемориала, которого нет и по сей день? (Следует добавить, что в семье самого Хрущёва репрессирована была, как он подчёркивал, «только» его невестка. Она отсидела в Гулаге с 1943 по 1954 год, и хотя вытащить её при жизни Сталина Хрущёв был не в силах, тайком он помогал ей.){88}.
Изобличение преступлений сталинской эпохи не раз за десять лет приводило Хрущёва к конфликтам с влиятельными оппонентами, и всегда определённую роль в них играли его зеки. Когда он инициировал судебные процессы над Берией и другими руководителями сталинской госбезопасности (большая часть их пришлась на 1953–55 годы), выжившие жертвы предстали перед судом, чтобы дать показания. Когда он готовил свою политическую бомбу, взорвавшуюся на XX съезде, он позаботился о том, чтобы в зале среди почти 1500 делегатов оказалось заметными около сотни освобожденных зеков. Когда в 1957 году он шёл на открытое столкновение в ЦК с нераскаявшимися сталинистами: Молотовым, Кагановичем, Маленковым и Ворошиловым, — Шатуновская и Снегов снабдили его свидетельствами их соучастия в сталинских преступлениях. Когда Хрущёв пошёл в публичное наступление на упорно не желавший сдаваться культ Сталина, убрав в 1961 году тело деспота из Мавзолея, ещё одна бывшая жертва, Дора Лазуркина, внесла соответствующую резолюцию на заседании съезда. А чтобы развенчать миф о сталинском Гулаге как об «исправительных работах», Хрущёв обеспечил публикацию солженицынского «Ивана Денисовича» -неприкрашенный рассказ бывшего зека о жизни в лагере{89}.