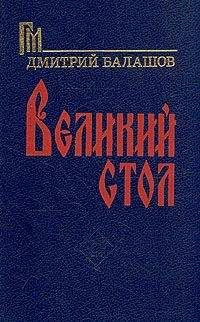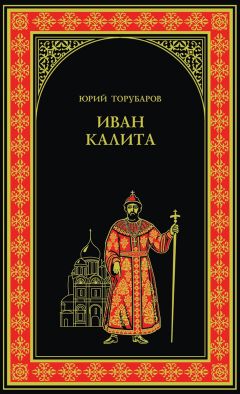Дмитрий Балашов - Бремя власти
– Нельзя тебе, батюшка, видеться с им! Николи нельзя! Узбека осердишь, отцову волю порушишь! Бесермены скажут, что ты, батюшка, с ими заодно, с тверичами-то, вместях, значит! Дак и его теперича не спасешь, и себе худо содеешь!
Боярин был трижды прав, а братьев и будить не стоило. Но, разбуженные, уразумев дело, вдосталь намученные уже тем, что происходило и деялось в Орде от их имени, они не захотели остаться в стороне. Едва боярин выбежал из горницы – отдать приказ дворскому не пускать князя, Андрей кошкою кинулся вслед за ним, выкрикивая:
– Стой! Князя не трожь, смерд! Я сам приму Александра! – заносчиво бросил он Симеону через плечо, но не поспел сделать и двух шагов.
– Не смей! – С нежданною дикою силой Симеон схватил брата за плечи и ринул его в сторону от дверей.
Андрей, не удержавшись на ногах, пал на колена и руки, вскочил, едва не бросился сам на брата, но замер – глаза в глаза. Страшные мгновения оба молчали. Но вот плечи Андрея свело судорогою, он сгорбился, всхлипнув, разжал кулаки и проговорил с обреченностью ужаса:
– Мы убийцы!
– Да! – жестко отмолвил Симеон. – И я – паче тебя!
– Уби… уби… – губы Андрея не слушались.
– Да! – повторил Симеон. – Мы убийцы!
– Неужели ничего нельзя содеять? – жалобно, впервые подав голос, проговорил Иван.
– Ничего. И выбора нет. Это – власть! – сурово отмолвил Симеон.
– А я не хочу такой власти! – выкрикнул Андрей.
– Ты и не получишь ее, – мрачно возразил Симеон. – Я старший. И в ответе за все. И грех – на мне. Хочешь знать, я уже наказан. Смертью сына. И это не все, а начаток господней грозы…
– Отец нас, как котят, бросил сюда, а сам… – пробормотал Андрей,вздрагивая.
– Батюшку не трожь! – выкрикнул высоким голосом Симеон. – Ему тяжеле, чем нам! Веси ли вы оба, почто нас троих отослал он в Орду? Может, мы… может, нас… яко Авраам Исаака… на заклание… Дак каково было батюшке посылать нас на смерть?! Ежели бы другояко поворотило здесь, про это ты думал?
– А что… Могли разве и нас? – вновь подал голос Иван.
– Да! Выбора нет! Кого ни то… нас или их… Теперича Александр Михалыч, а могло, могли мы!
Андрей вдруг пал ничью на постелю и зарыдал.
– Спи! – примирительно проговорил Симеон. – А я буду молить Господа.
В этот-то миг и раздался бешеный стук в ворота. Симеон решительно дунул на свечу и выскочил в сени, прихлопнув за собою и подперев какою-то палкой тяжелую дверь.
Руки его, совершенно ледяные, лежали на засове дверей, когда Федор снаружи колотил и кричал поносно. Симеон стоял в полной темноте в одной нижней рубахе, не чуя холода, и только беззвучно повторял, шевеля губами:
– Господи, господи, господи…
Когда Федор выкрикнул свое последнее, про плевок, Симеон склонил голову (пальцы аж побелели, вцепившись в затвор) и прошептал в темноту:
– Ну же, плюнь, плюнь на меня! Хуже я худших на земле!
И только когда там, на дворе, со скрипом захлопнулись ворота, Симеон, стуча зубами, на цыпочках прошел в горницу (братья молчали, слава Богу) и, не зажигая огня, ощупью добравшись до ложа, повалился лицом вниз на постель.
О ночном событии ни во второй, ни в третий день оба, отец и сын, не говорили друг с другом. Двадцать восьмого октября, в день памяти святых мучеников Терентия и Неонилы и святой мученицы Параскевии, Александр, заметно постаревший за прошедшие сутки, велел служить заутреню и молился долго, с увлажненными глазами. Князев духовник вспоминал потом, что Александр в этот день слушал псалмы Давыдовы и на словах: «Господи, что се умножишася стужающие ми… мнози глаголют душе моей: несть спасения ему…» – прослезился.
Так ли, нет, но на позднем утре деятельная натура князя взяла свое. Александр сел на коня и поехал вновь по знакомым ордынцам, перенимаючи вести о казни своей, а доверенного слугу послал к царице за тою же нужою. О полден князь и слуга одновременно воротились в стан. Надежды не было. Более того: надежды не было и для Федора. Александр, растерянный, не зная, как повестить, как высказать, зашел к сыну, но Федор не дал ему говорить.
– Знаю, отец! – отмолвил он на молчаливый крик воспаленных родительских глаз. – Да мне и соромно было бы остати опосле тебя, батюшка!
– И Александр молча, с благодарным отчаяньем, припал к плечу сына.
Взошел духовник, и Александр, скрепясь, приказал петь часы. Торжественное и согласное пение мужских голосов не то что успокоило, но придало мужества предстоящим. Ничего сделать уже нельзя, так хоть погибнем достойно! – казалось, выговаривали величавые гласы византийского молитвословия.
Когда кончали, князь ненароком глянул в оконце и увидел князя Черкаса с толпою татар, приближающегося к русской веже. Это шла смерть. Забыв обо всем, Александр выскочил на улицу – то ли драться, то ли возопить безумно… К нему подбежали, не то свои, не то чужие, вырвали оружие, заломили руки назад.
Князь остоялся. Жадные пальцы татар срывали с него верхнее платье, золотую цепь, украшения. Пронзительный холод был сладок обнаженному телу, как далекий зов родины. Он не заметил, что Федор, подошед сзади, твердо стал рядом с отцом.
Тучный, в лисьей шубе, на длинном породистом коне подъехал Товлубий. С коня, сверху вниз, сузив глаза, уставился на связанного Александра. Ордынец сопел, тщась узреть во взоре тверского князя ужас приблизившейся смерти. Но Александр уже не видел его. Он поднял глаза к небесам, глядя на белое-белое одинокое облако на синем холодном окоеме. Губы сами шептали молитву, а в очах далеким воспоминанием пробежало и сникло осеннее золото листвы…
Вот так во время охоты остояться вдруг и, подняв голову, увидеть на звонком холодном небе ослепительно белый, снизу и доверху ровно сияющий ствол березы в червонном золоте осени. Трубят рога… Как мало он жил, как мало смотрел! Заливистый лай хортов, бешеный бег коней… Сына он погубил тоже. Быть может, Всеволод или Владимир? (О меньшом, Михаиле, Александр как-то не вспомнил в этот час, а продолжил эту, уже безнадежную, борьбу Твери с Москвою и не Всеволод вовсе, а именно Михаил.) Смерть была напоена осеннею горечью, сухим и холодным режущим ветром степей. Нужно было мужество, чтобы встретить ее достойно. Мужество должно иметь мужу всегда, по всякой миг многотрудной человеческой жизни. И перед часом смерти – сугубо, ибо зачастую одним мгновением этим оправдана или перечеркнута, опозорена, наниче обращена вся предыдущая жизнь.
Из далекой дали донесся слабый возглас татарина:
– Убейте их!
Что-то выкрикнул Федор в ответ. Железо с неживым хрустом вдвинулось в грудь и живот – больше он ничего не чувствовал…
Убитым князьям отрубили головы, волочили и грабили разбегавшихся бояр, разграбили вежу. Потом, к ночи, верные собрали разрубленные на части тела господина своего и княжича Федора и, оплакав, уложив по-годному в дубовые колоды, повезли на Русь.
Глава 67
В далекий Радонеж вести доходят глухо, успевая обрасти по дороге свитою небылиц. О гибели тверских князей в Орде повестил случаем проезжий княжой гонец, а то бы, почитай, и после Рождества не узнали! Жизнь здесь идет ровно, от одной летней страды до другой, по годичным кругам, и только то, как растут дети да старятся старики, и отмечает наступчивое течение времени.
Сыновья боярина Кирилла, Стефан и Петр, оженились. Стефан – на Анне, внучке Протопоповой. Варфоломей собирается в монастырь. Вновь и опять валят лес на новые хлева и хоромы. Дневные труды окончились, холопы ушли, и только Стефан с Варфоломеем задержались в лесу. Снег сошел, но земля еще дышит холодом, а чуть солнце садится за лес – начинает пробирать дрожь. Стефан сидит сгорбясь, отложив секиру, накинув на плеча суконный охабень. Варфоломей – прямь него, кутаясь, как и брат, в сброшенный давеча, во время работы, зипун. Он вырос, возмужал, оброс светлою бородкой и спорит со Стефаном уже почти как взрослый, хотя Стефан по-прежнему побивает его усвоенной в Ростове ученостью.
Сейчас Варфоломей говорит угрюмо, не то брату, не то самому себе:
– Опять погибли двое наших князей в Орде. Чаю, вновь по навету, как Михайла Святой! Ты баешь, это нужная борьба за вышнюю власть на Руси? Пусть так! Ну а зачем наш наместник, Терентий Ртищ, отобрал за спасибо коня у Несторки? Зачем, ради какой злобы, Матрену Сухую заколдовали на свадьбе, и с тех пор баба сохнет день ото дня и чад приносит все мертвых? А Тишу Слизня прошлою зимой не деревом задавило, я вызнавал, а порешил его в лесу Ляпун Ерш, и это знают все и молчат, потому что у Ляпуна, как бают, дурной глаз и он может испортить того, кто доведет на него наместнику! А когда у Ондреянихи летось сгорел двор, то никто ей не восхотел помочь в беде, окроме нашего бати да Онисима, и только потому, что бабы Ондреяниху облыжно считают колдовкой! Ты мне скажи, – подымает голос Варфоломей, – не то скажи, кто прав и кто виноват в княжеском споре, а – откудова зло в мире? Откуда само зло! Вечная рознь князей, убийства, неправый суд, жестокость, бедность, леность, зависть, болезни и, паче всего, равнодушие людское? Как все это помирить с благостью божией? Ведь Господь злого не творит! Не должен творить!