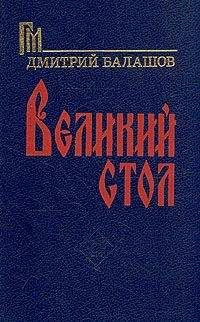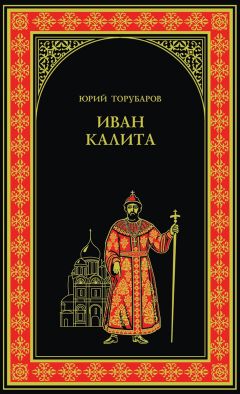Дмитрий Балашов - Бремя власти
– Не хочу пускать! Пускать не хочу, говорю!
Константин молчит. Расширенным, блестящим взором, в котором сквозит страх, глядит на мать. (Она не знает, а он знает о том: вторая Софьина наушница забилась за полог кровати. Любое его слово будет тотчас передано жене.)
– Шкоды, шкоды не было меж вас никакой? Пакости никоторой вы с Софьюшкой ему не содеяли? На смерть ведь едет!
Константин потерянно дергается. Глаза матери его ужасают. Кабы не спрятанная Софьина холопка, может, в этот миг он и признался бы о грамоте тайной, неволею, по жениному навету, посланной в Орду…
– Нет? Не было?! Поклянись мне, Костянтин!
– Крестом… клянусь… – хрипло шепчет он, и крупный пот градинами сбегает с чела на зголовье. Отныне, обманув на кресте родную мать, он уже не человек. Анна встает. Ревниво и отчужденно озирает изложню. Показалось ли, или верно кто-то ся прячет за пологом? От гордости не пошла проверять. Да и сын зело плох. Покой ему надобен.
Лишь только за Анной закрывается дверь, в горницу, почти безумная, врывается Софья. (Холопка уже вылезла из-за полога, преданными глазами ест госпожу.)
– Костя? Чево она? Чево прошала? Ну! Ну же, говори! Ты ничего не сказал, нет? Поклянись мне!
– О здоровье прошала, – шепчет Константин, – я ничего… не сказал…
– А ты, полоротая, чего слышала, ну? Говори! – накидывается Софья на холопку.
– Прошала, пакости не было ли какой промеж вас и Лексан Михалычем.
– И што?!
– Костянтин Михалыч изволили отмолвить…
– Ну!!!
– Отмолвили: «Никоторой». И поклялись.
Софья рушится задом на постель, крупно крестит лоб, бросает устало:
– Пошла вон!
Потом, оборотясь к Константину, произносит с растяжкой:
– У-у-умница ты моя! Хоть тут-то вытерпел, не разнюнил… Слышишь?
Но Константин не слышит уже ничего. Он в обмороке.
Молодой, красивый, в расшитой шелками рубахе и рудо-желтом летнем тафтяном опашне, прибывает из Кашина младший Михайлович, Василий, юный дядя подрастающих племянников, Александровичей. Целует мать, жмет за плечи Всеволода, Владимиру с Андреем ерошит волосы, подкидывает в воздух меньшего, Махаила, и тот визжит и хохочет, вцепляясь в дядины долгие, шелковые на ощупь волосы.
Они пируют на сенях, с дружиною, и хоть нет за столом Константина, но нет зато и московской невестки. И княгиня Анна, сокрывшая в душе вчерашние страхи свои, улыбается сыновьям, открывая в улыбке некогда красивый, теперь уже лишенный многих зубов рот, говорит прежним, полным и «вкусным», голосом, угощает, предлагая то жаркое, то рыбу, то свежие фрукты и мед, то печенье собственного рукоделья, которым баловала их, маленьких, и сейчас еще нет-нет да и готовит по торжественным дням с помочью старой сенной боярыни своей. И они болтают, дурачатся, поминают забавные случаи на ловах: как Александр повис на дереве, зацепившись за сук кушаком, а конь вымчал из-под него и спокойно стоял рядом, пощипывая траву; или как Василий, перемахивая овраг, сорвался и угодил головой в куст и болтал ногами, пока не подоспели осочники. Смеются княжичи, смеется грудным волнующим смехом Настасья, и молодой деверь нет-нет и поглядывает с легкою безотчетною завистью на красавицу жену старшего брата. И сама Анна смеется дробным старушечьим смехом, смеется, и кашляет, и всхлипывает, и утирает невольные мелкие слезинки кончиком наброшенного на плеча синего шелкового плата.
Солнце низит, пробрасывая золото своих лучей сквозь отодвинутые оконницы, и багряно золотит столы, лавки, лица гостей, вспыхивая на серебре и поливной глазури пиршественных столов. Звучат струны домр, гудят и заливаются рожки и сопели, пляшут, размахивая долгими рукавами, скоморохи, а там, за окнами, остывая к вечеру, пошумливает, укладываясь на покой, огромный город, и выкованная из восточной стали громада воды несет и несет гаснущий свет вечерней зари в дикую степь, в Орду, в земли незнаемые, досыти политые слезами и кровью русичей, угнанных туда в полон.
Длится пир. Не смолкают веселье и клики. Изрядно захмелели гости. Уже и княгини удалились к себе на покой. А всё еще звучат здравицы, летают с блюдами и кувшинами взопревшие слуги, льются вина и мед, и музыка звучит не смолкая. Назавтра – отъезд.
«Ладо мой милый! Хороший мой! Нравный! Гордый мой сокол! Спишь? Спи! Спи, милый. И я посплю рядом с тобою. Быть может, последний раз? Чур меня, чур! Что я! Воротишь домой, ладо, и Федю привезешь с собою. Не нать мне ни княженья великого, ни персидской парчи, ни лалов, ни яхонтов дорогих! Вороти, Господи, ладу милого и любимого моего сына! Боле ни о чем не прошу! Дрема долит, а и заснуть некак! Только глазоньки соткну – словно уже и нет никого со мною! Да нет, вот он, вот, рядом… Устал на пиру. Захмелел. Спит. Спи, ладо! Спи, милый! До зари, до пути, до Орды… И я засну рядом с тобой, князь мой светлый! Пережили мы все, десять летов скитались на чужбине. Даст Бог, переживем и эту беду!»
Солнечные брызги дробятся на синей воде. Ветер шумит в листве, холодит лицо. Весь Кашин, почитай, вышел к пристаням, провожать своего князя.
Досюда, до устья Кашинки, доплыли по тихой воде. А тут, пока стояли службу у святого Спаса, разыгралась погода немалая. Встал ветр со встречной, ордынской, стороны, едва не опруживало лодьи. Порешили все же не ждать. Епископ с игуменами тверских монастырей, попами и причтом, в парчовом великолепии торжественных одежд, с иконами и хоругвями, выстроились на берегу. Уже не пораз перецелованы все дети, а снова и снова лезут к отцу, обнимают, хватают за бороду, мокрыми ротиками стараются поцеловать в губы. Уже и Настасья, сияющая, вся в росе прощальных слез, разомкнула прощальные объятия, и Василий, обняв и по-мужски крепко трижды поцеловав брата, отступил в сторону. (Мать осталась в Твери, и хорошо, что никто не видел ее тотчас после разлуки, на высоте, в стрельнице княжого терема, одиноко оплакивающую горькими безнадежными слезами уходящий по Волге караван.)
– Долгие проводы – лишние слезы! – весело произносит князь, ступая на зыбкие сходни, уводящие его в небытие. И уже некому удержать, некому возопить: «Не езди!» И только ветр, чуя горечь далекого пути, ярится, и свищет, и рвет пену с кипящей воды, и не пускает, и держит княжеские насады.
«Не езди! – поет ордынский ветер, сгибая высокие дерева. – Не езди, князь! Зло ожидает тебя в земле незнаемой!»
Но не слушают ветра. Мощно вспенивают воду гребцы. Ярится ветр. Вновь и вновь пихает, и бьет насад княжеский, и гонит его встречь воды, в противную, в тверскую, сторону: «Не езди!» Но упорны гребцы, и упорен князь, идущий навстречу судьбе. И смиряется ветр. Медленно, толчками, уходит и уходит княжой насад в далекие дали, в дикие степи, в ничто.
Глава 66
Кончался сентябрь. Осень нагоняла лодьи. Оранжевое пестроцветье берегов и холодный, с запахом горечи вянущих трав ветер, долгими сизыми языками вспарывающий густую синюю воду, треплющий паруса и кренящий княжеские насады. Ветер! Скажи хоть ты, о чем думает человек, плывущий на смерть? Но ветер воет неразличимо, а человек вовсе и не думает о смерти! Даже и зная – не знает, не верит до последнего часу. Кабы верил и знал – многое стало бы иначе, а иное содеялось бы даже и невозможным на нашей земле!
Сарай открывается нежданно. Город-торг, большой, шумный, грязный и величественный – величием хищной силы, величием заносчивой власти. Город без стен и даже без путной охраны. Город, гордо не знающий, не ведающий еще, что его нужно от кого-нибудь охранять… Почто не теперь нагрянули на тебя удалые новогородские ушкуйники?!
Князя встречают, и первое – крепкое объятие сына. «Федя! Жив! Цел! Ну? Как тут?» – «Плохо. Потом!» Они едут бок о бок, и лицо сына, обожженное солнцем и ветром, кажет очень взрослым, куда более его семнадцати мальчишечьих лет.
– Не в пору, отец! Пождать бы!
– Звали!
– Знаю.
– Баба Анна остерегала.
Федор взглядывает на отца без улыбки, строго, и тотчас потупляет взор. На нем простая холщовая чуга поверх голубого зипуна, припорошенная пылью, заляпанная по полам брызгами унавоженной грязи из-под копыт. Руки твердо и ловко держат удила отделанного чеканным серебром оголовья. Ноги в востроносых сафьяновых сапогах уверенно стоят в стременах. В Орде выучился сидеть на коне так, что и позавидовать мочно.
– Баяли, Узбек воротит нам великое княжение! – уже с промельком сомнения замечает отец. Федор молчит, отвечает спустя время и невпопад:
– Данилыч, слышно, детей присылает в Орду. Днями будут. Все трое.
– Не верит успеху? – спрашивает Александр. Ему очень нелюбо расставаться с надеждами на счастливый исход его нынешнего приезда к хану.
– Пожалуй, наоборот: слишком верит! – отвечает, помедлив, Федор. – Не то бы остерегся, поди!
И не столько от слов, сколько от голоса сына Александру становится жутко.